RUFOR.ORG
»
Афганистан: авиация в Афганистане
| Новая тема Ответить |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#11 |
|
|
«Вертушки», Афганистан. МИ-24
Для огневой поддержки и штурмовки ВВС 40-й армии располагали хорошо вооруженными и защищенными Ми-24. Правда, количество их поначалу было крайне небольшим и в формировавшихся ВВС 40-й армии в первые военные месяцы исчислялось всего шестью единицами. Можно усмотреть в этом недальновидность руководства, однако, по всей видимости, причины носили более обыденный характер: директивами высшего командования предусматривалось обойтись при вводе войск почти исключительно силами местных военных округов, ТуркВО и САВО (участвовавшие в операции десантники из центральных округов в состав 40-й армии не входили). Между тем, авиационные силы на южном направлении, считавшемся «тыловым», были весьма ограниченными. Вертолетных частей здесь насчитывалось немного, а боевых вертолетов имелось совсем мало (так, в 280-м ОВП по месту дислокации в Кагане под Бухарой таковых имелось две штуки, и то самой первой модели Ми-24А). Ми-24П в полете над пригородами Кандагара. 205-я ОВЭ, осень 1987 г После того как выяснилось, что армия оказалась в самой гуще вооруженной борьбы и открытых боевых действий не избежать, положение стали исправлять самыми энергичными методами. 1 февраля 1980 г. в авиационные части поступил приказ о снятии ограничений по расходу боеприпасов. Для усиления авиагруппировки пришлось привлекать боевые вертолеты из других военных округов. 29 февраля с помощью «Антеев» транспортной авиации в ТуркВО перебросили эскадрилью Ми-24Д вертолетного полка из Рауховки (ОдВО), которая тут же ушла в Афганистан, начав действовать с Баграмского аэродрома. Следом в таджикский поселок Московский переправили еще одну вертолетную эскадрилью для работы по северным районам Афганистана. Она разместилась в Кундузе и 27 июня 1980 г. была официально включена в состав ВВС 40-й армии. В Джелалабаде обосновалась эскадрилья Ми-24Д из состава закавказского 292-го ОБВП (через год, летом 1981 г., полк сменил вновь сформированный 335-й ОБВП). В составе 50-го ОСАП, формировавшегося согласно директиве МО СССР от 4 января 1980 г. на базе в Чирчике, сразу предусматривалось наличие боевой вертолетной эскадрильи на Ми-24. Первый боевой вылет пара полковых Ми-24Д выполнила из Кундуза 11 марта 1980 г. К концу месяца полк перелетел в Кабул, откуда работал до конца войны, постоянно имея в составе одну эскадрилью Ми-24. Еще один сборный вертолетный отряд, насчитывавший два десятка Ми-8 и Ми-24, в конце 1980 г. прибыл в Кундуз. Всего в составе ВВС 40-й армии к январю 1982 г. насчитывался 251 вертолет, в том числе 199 «боевых», как сказано в документе ГИУ ВВС (по всей видимости, имела место неточность в терминологии и имелись в виду все вооруженные Ми-8 и Ми-24). Тем не менее недостаток Ми-24 оставался ощутимым, чем и объяснялась затянувшаяся практика использования «восьмерок» в ударных целях. При отсутствии боевых вертолетов в большинстве частей их задачи приходилось решать тем же Ми-8, пусть и не самым лучшим образом для этого приспособленным. В упоминавшейся операции по уничтожению душманской базы в Рабати-Джали в начале апреля 1982 г. была задействована целая армада численностью в два вертолетных полка, однако среди них не оказалось ни одного Ми-24 — на Кандагарской базе их тогда еще просто не было. Позднее боевыми вертолетами дополнили и другие уже находившиеся в Афганистане части армейской авиации. В середине февраля 1982 г. эскадрилью Ми-24Д включили в состав кандагарского 280-го ОВП. С апреля 1982 г. эскадрилья Ми-24 вошла в состав 181-го ОВП в Кундузе. В итоге практически все части армейской авиации в ВВС 40-й армии, от полков до отдельных эскадрилий, получили вертолеты Ми-24 (за исключением разве что советнических, располагавших только транспортной авиацией, в задачи которых прямое участие в боевых действиях не входило по определению). Еще одним, и весьма существенным, мероприятием организационно-штатного характера стал перевод вертолетных частей и подразделений на усиленные штаты военного времени. Уже к концу лета 1980 г. все вертолетные эскадрильи в Афганистане были укомплектованы составом из пяти звеньев по четыре вертолета в каждом — вместо предыдущего четырехзвенного. Соответственно, в эскадрильях насчитывалось по 20 вертолетов вместо 12-16, как это было раньше (число могло отличаться и в большую, и в меньшую сторону, по обстоятельствам — к примеру, после потерь или, наоборот, восстановления после аварии «неучтенных» машин, причем бортовой номер сбитого вертолета, с оглядкой на недобрую примету, никогда не присваивали новому). Для пополнения находящихся в Афганистане вертолетных частей согласно новым штатам потребовалось изыскивать экипажи и технику по разным округам, «гребенкой» пройдясь буквально по всей армейской авиации. В начале августа 1980 г. на базе в Кокайтах собрали 72 вертолетных экипажа для Ми-8 и Ми-24 с техникой, которые 16 числа того же месяца перелетели в Афганистан и были распределены по частям ВВС 40-й армии. Начало боевой работы Ми-24 сопровождалось изрядными проблемами, обусловленными как недостатком опыта, так и особенностями самой машины, помноженными на специфику афганских условий. Высокие скоростные качества и маневренность Ми-24 достигались за счет большей удельной нагрузки на несущий винт (по площади он был полуторакратно меньше, чем у «восьмерки»), что не лучшим образом сказывалось на взлетно-посадочных качествах и несущей способности. При боевом маневрировании на больших скоростях «полосатый» с его высокой аэродинамической нагрузкой на лопасти винта был подвержен опасному явлению «подхвата» с забросом перегрузки и выходом на срывные режимы. Неожиданное поведение вертолета воспринималось как потеря управления и неподчинение машины.  Вертолетчики-борттехники 181-го ОВП Манжосов и Шолохов из 3-й эскадрильи полка. На Ми-24В подвешены бомбы ОФАБ-250-270 и блоки Б8В20. Кундуз, декабрь 1984 г Ощутимой оказывалась просадка вертолета на выходе из пикирования. При выполнении энергичных маневров машина могла зарываться, теряя высоту и соскальзывая на вираже. Энергичное управление при маневрах, торможении и уклонении от препятствий приводило к опасным ситуациям — некоординированности маневра, попадании в сложное пространственное положение, ударам винта о хвост с неизбежным переходом в аварийную ситуацию. В сочетании с дефицитом мощности и приемистости двигателей в горных условиях, срывным обтеканием и «затяжелением» управления пилотирование Ми-24 существенно осложнялось, что было особенно заметно по сравнению с более легким и «летучим» Ми-8. Свою долю вносили местные особенности — плохие площадки для посадки с ограниченными подходами, выполнение полетов в горных узостях с неудовлетворительными условиями для маневра, сама метеообстановка со множеством орографических возмущений4, неожиданными воздушными потоками и турбуленцией, бросающей вертолет на скалы. Многие ущелья выглядели настоящими «каменными мешками», не имея выхода, а воздушные потоки дули в разных направлениях у соседних склонов — восходящие у нагретого солнцем и нисходящие у остающегося в тени. Помимо сложностей в пилотировании, стесненность условий и достаточно сильные ветры сказывались на применении оружия: летчик располагал крайне малым временем для оценки обстановки и прицеливания, а воздушные потоки буквально «сдували» ракетный залп и относили сброшенные бомбы. Крепость у Кандагара, служившая пристанищем местным бандам и объектом постоянной работы вертолетчиков  Техники и летчики 181 -го ОВП занимаются заготовкой стройматериалов. При почти полном отсутствии дерева и других материалов под обустройство на доски разбираются ящики из-под реактивных снарядов, большим спросом пользовалась также бомботара из бруса. Кундуз, осень 1983 г Огневая подготовка в учебе экипажей боевых вертолетов занимала должное место. Навыков боевого применения в здешних непростых условиях, да и практики пилотирования в подобной обстановке практически никто не имел: прибывшим из одесских степей летчикам прежде горы случалось видеть разве что на курорте в Минводах. Уроки стоили немалых потерь, в основном, по причинам аварийности. К концу 1980 г. ВВС 40-й армии лишились 21 вертолета Ми-24 (даже больше, чем Ми-8, которых было потеряно 19). Основная масса их была утрачена вовсе не по боевым причинам и без какого-либо огневого поражения. В частности, в кундузской эскадрилье разбили половину имевшихся Ми-24 при всякого рода летных происшествиях — от ошибок в пилотировании до попадания в сложные условия. В частности, в декабре 1980 г. взлетавший Ми-24 поднял своим винтом снежный вихрь и при потере летчиками видимости налетел на стоявшие рядом Ми-6, порубил крайний вертолет лопастями и сам упал тут же. Первым погибшим вертолетчиком в Афганистане стал борттехник Ми-24 старший лейтенант А.Н. Сапрыкин. 21 января 1980 г. его вертолет проводил воздушную разведку и попал под обстрел. Выполнявший свой девятый боевой вылет летчик получил тяжелое ранение и через два дня умер в госпитале. Спустя три недели, 13 февраля, у Джелалабада был сбит Ми-24 капитана С.И. Хрулева из состава 292-го полка, разбившийся вместе с экипажем. Этот Ми-24 стал первым, потерянным в Афганистане, и первой боевой потерей авиации 40-й армии. Вместе с тем, в боевой обстановке Ми-24 с его мощным вооружением и защищенностью обладал явными преимуществами, будучи машиной, созданной и приспособленной именно для ударных действий (правда, мнение о его превосходстве неоднократно оспаривалось, и многие предпочитали для большинства заданий Ми-8МТ, считая «двадцатьчетверку» перетяжеленной и недостаточно маневренной в условиях высокогорья). Тем не менее специфика поля боя брала свое, и постепенно доля Ми-24 возросла почти до половины вертолетного парка, а в практику вошли смешанные звенья из пар Ми-8 и Ми-24, дополнявших друг друга. Уже в Панджшерской операции в мае-июне 1982 г. были задействованы 32 вертолета Ми-24 — без малого все, имевшиеся тогда в наличии. Показательно, что I с насыщением ВВС 40-й армии боевыми вертолетами «восьмерки», выступавшие прежде «мастерами на все руки», для выполнения ударных задач стали привлекаться гораздо реже, уступив эту роль более приспособленным «крокодилам». Со временем участие Ми-8 в авиационной поддержке по вполне объяснимым мотивам сократилось еще больше, и с 1985 г. доля вылетов на выполнение таких задач не превышала 10—12%. По словам летчика-штурмана Ми-8 старшего лейтенанта A.M. Дегтярева, прибывшего в 50-й ОСАП в ноябре 1985 г. и прослужившего там до января 1987 г., за эти пятнадцать месяцев «бомбами пользовались всего два раза, уничтожили мост под Асмаром и в операции в Кунарском ущелье, правда, бомбили на совесть, работая десяткой Ми-8 и бросая по четыре ОФАБ-250. Блоки тоже использовали нечасто, специфика заданий другая, большинство вылетов приходилось на перевозки, снабжение постов, целеуказание, из-за чего даже ненужные фермы снимали и летали без них».  «Главный калибр» — фугасная бомба ФАБ-250М62 на стоянке 4-й эскадрильи 181-го ОВП. Кундуз, осень 1983 г  Ми-24 прикрывают транспортную колонну на подходе к Кабулу Поскольку подобная практика вошла в обыкновение и летчики Ми-8 в большинстве вылетов возлагали обеспечение огневого прикрытия и поддержки на сопровождающие их «крокодилы», командующий армией даже указывал на то, чтобы снаряжение вертолетов соответствовало боевой обстановке и те при непредвиденном развитии событий не оказывались «безоружными». В частности, выяснилось, что задействованные в системе «Завеса» вертолеты, вылетавшие на борьбу с караванами, сплошь и рядом ходили «пустыми», хотя досмотровым группам обычно требовалась поддержка с воздуха. Приказом по 40-й армии от 11 декабря 1987 г. предписывалось участвующие в разведывательно-дозорных действиях вертолеты снаряжать должным образом и с этой целью в обязательном порядке «для обозначения целей, а также поражения выявленных огневых точек, Ми-8МТ с десантными группами оборудовать по два блока УБ-32». Организационные меры были, что называется, делом наживным и сопровождали весь ход афганской кампании соответственно меняющейся обстановке. Свои особенности в напряженной боевой работе проявляла и матчасть, в том числе вооружение, как система, первоочередным образом определяющая эффективность боевого вертолета.  Зарядка вертолетных блоков ракетами С-8Д. 262-я ОВЭ, Баграм, лето 1987 г Предусмотренные возможности размещения на борту Ми-24 десанта (в ту пору была популярна концепция использования боевого вертолета в качестве «летающей БМП») оказались невостребованными. Как и дома, на практике этому мешали невысокие несущие свойства достаточно тяжелой бронированной машины с набором вооружения (пустым он весил почти на 1,5 т больше Ми-8). С десантниками Ми-24 становился неповоротливым, да и для размещения бойцов в грузовой кабине больше подходили карлики — ее высота составляла всего 1,2 м. В Афганистане реализации подобных замыслов препятствовало еще и общее ухудшение летных качеств, особенно чувствительное при специфичных особенностях Ми-24. Одним из немногих примеров использования «крокодилов» в подобном качестве стали полеты кундузских машин в первый военный год: решив задействовать-таки имеющиеся возможности, на борт Ми-24 из эскадрильи майора Козового время от времени брали бойцов-стрелков из соседней 56-й десантно-штурмовой бригады. Для усиления огневой мощи на борту размещались по четыре солдата с ручными пулеметами, которые вели стрельбу через боковые форточки в окнах. Их присутствие прибавляло лишние полтонны, однако в зимние месяцы на «летучести» вертолета это особо не сказывалось. Насколько эта затея оправдала себя — неизвестно, однако при одном из вылетов вертолет капитана Глазырина сел на вынужденную в горах, и с ним оказались сразу семь человек экипажа и стрелков. На выручку подсел Ми-24 капитана Валиахметова, подобравший всех разом. Как разместились спасенные в тесном отсеке размером с «Запорожец» — известно только им, но вместе со «своей» стрелковой группой на борту находились сразу 14 человек. Вертолет, тем не менее, смог выполнить вертикальный взлет с горной площадки и доставить всех на аэродром.  Снаряжение блоков ракетами типа С-8. Со снарядом в руках — лейтенант группы вооружения 205-й ОВЭ А. Артюх. Кандагар, лето 1987 г Сложные условия эксплуатации вскоре выявили ряд недостатков вооружения Ми-24 и, прежде всего, его стрелковой установки УСПУ-24. Большая скорострельность четырехствольного пулемета ЯкБ-12,7 в 4000-5000 выстр./мин (не зря он именовался «высокотемпным») и внушительный секундный залп, составлявший 3,6 кг (для сравнения: у ДШК при том же калибре — всего 0,5 кг) были достигнуты значительным усложнением конструкции. Вращающийся блок стволов с помощью кинематического механизма приводился в движение своеобразным газопороховым мотором, использовавшим отводимые пороховые газы. Огонь из пулемета вел летчик-оператор с помощью подвижной прицельной станции КПС-53АВ, обеспечивавшей наведение оружия и стрельбу с внесением необходимых поправок на скорость, угловое перемещение и прочих, требовавшихся для прицеливания (стоящая в кабине оператора станция любопытным образом именовалась «кормовой», сохранив букву «К» в наименовании от прототипа, заимствованного с дальних бомбардировщиков). Огонь мог вести и летчик, однако только при установке пулемета в переднее положение по оси машины и его использовании в качестве неподвижного, выполняя прицеливание по своему прицелу АСП-17В (на Ми-24В, на предыдущих Ми-24Д пользовались прицелом попроще — типа ПКВ). В полете — Ми-24П капитана Беляева из 205-й ОВЭ. Вертолет несет обычный вариант вооружения для разведывательно-поисковых действий из пары блоков Б8В20 и двух ПТУР «Штурм» Пулемет по праву считался грозным оружием — его внушительный залп обладал мощным поражающим действием и по живой силе, и по машинам в душманских караванах, разнося даже полуметровой толщины дувал, непробиваемый ракетами С-5. При нормальной работе пулемет заслуживал у летчиков самых положительных отзывов. Андрей Маслов, летавший оператором на Ми-24В в 50-м полку, так описывал свои впечатления от работы с пулеметом: «Скорострельность у него такая, что машину разрезает пополам. Бронебойно-зажигательные пули даже БТР прошибают, дашь очередь — и вдаль уносится рой красных светлячков, даже днем хорошо видно. Не дай бог попасть под его очередь — от человека только руки-ноги летят. Бьет точно, мы как-то нарвались на «бородатых» на горушке, я заметил «духа», сидевшего у входа в пещеру и успел опередить, выстрелил в него навскидку. Очередь прошла прямо сквозь него, а дальше я не видел, песок фонтанами, и вся пещера вскипела от пыли. Когда выходишь на боевой курс, в перекрестье прицела дрожит цель и после нажатия гашетки в кабине пахнет пороховой гарью, почему-то вспоминаются фильмы про войну и кажется, что это не с тобой, а с кем-то посторонним...» Вместе с тем, ЯкБ-12,7 с его достаточно сложным устройством оказался чувствительным к перегреву и загрязнению — повседневным спутникам боевой работы. В газовом двигателе оседал пороховой нагар, система работала на пределе по температурному режиму и стойкости узлов, что было известно и раньше (при боекомплекте 1470 патронов инструкция ограничивала очередь максимум 400 выстрелами «с последующими перерывами для охлаждения оружия в течение 15-20 минут», в противном случае нагрев грозил взрывом капсюлей и патронов). Дома, где учебные стрельбы были нечастыми, а патроны — считанными, эти недостатки не становились проблемой, но в боевой обстановке, где настрел превосходил все нормативы, ЯкБ-12,7 стал источником непрекращавшихся рекламаций. 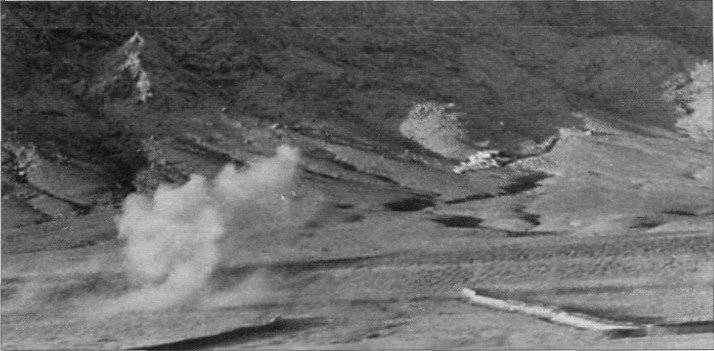 Ми-24П ведет стрельбу из пушки: перед самой машиной видны фонтаны разрывов. Район Черных гор под Кандагаром, осень 1987 г Пулемет заклинивало, заедал газовый двигатель, страдала кинематика. Высокий темп стрельбы требовал такой же скорости подачи ленты, тянувшейся по извилистому рукаву, и та нередко рвалась при рывках. Использование специальных двухпульных патронов, разработанных для ЯкБ-12,7 и способных вдвое повысить плотность огня, влекло за собой отказы из-за слабой заделки пуль в дульце гильзы: при рывках ленты они разбалтывались, шли с перекосом и не раз приводили ко вздутию и разрыву стволов. В 50-м полку, начавшем боевую работу весной 1980 г., благодаря настойчивости службы вооружения выяснилось, что изрядная часть отказов носит заводские причины и стоящие на вертолетах ЯкБ-12,7 вообще не проходили положенные при сдаче испытания отстрелом. Случались отказы системы управления (следящих сельсинов синхронизации и электроприводов наводки), при которых пулемет бил в сторону от линии визирования и не возвращался в нейтральное положение. Избавляясь от дефекта, пулемет иногда фиксировали по оси вертолета, и огонь из него при помощи своего автоматического прицела АСП-17В вел летчик. Неоднократно для устранения дефектов приезжали доработчики, проблемы пыталось решить КБ, но результаты оставались скромными. Впрочем, отчасти неисправности обуславливались жесткими условиями эксплуатации и не всегда полноценным присмотром за оружием, требовавшим чересчур много внимания в напряженной боевой работе, а обслуживания «по состоянию» ЯкБ-12,7 явно не терпел. Летом 1982 г. в 4-й эскадрилье Кандагарского полка из 20 вертолетов Ми-24 пулеметы нормально работали только на семи машинах, заслужив ироническую расшифровку своего наименования «Якобы стреляет». Положение почти не изменилось и в последующие годы, когда значительную часть пулеметных «двадцатьчетверок» вытеснили пушечные Ми-24П. По рассказу А. Маслова, «в мае 1986 г. из-за неработающего пулемета нам пришлось летать вовсе без него. Работали тогда в районе Чакарай, долбили один кишлак, и у меня в самый интересный момент пулемет заклинило. После вылетов до поздней ночи с ним возились, перемазались все, устали, но так и не сделали. Пришлось вызывать оружейников из Кабула, прилетели они, копались-копались с пулеметом, так ничего и не исправили, сняли вообще и бросили в грузовую кабину. Летали с дыркой на месте пулемета, в кабине сквозило. На другой день специалист нам окончательно пулемет доломал. Уже когда вернулись на базу в Кабул, заменили его на новый». С появлением мощных НАР С-8 новыми блоками Б-8В20 в первую очередь старались оборудовать пулеметные машины, компенсируя дальнобойными реактивными снарядами неудовлетворительную работу пулемета. К весне 1987 г. в отряде 205-й отдельной вертолетной эскадрильи, приданном спецназу в том же Кандагаре, оставался единственный Ми-24В, на котором ЯкБ-12,7 не выдерживал и нескольких дней без очередного отказа. По отзыву ведавшего вооружением лейтенанта А. Артюха, «пулемет из нас всю душу вытянул, добиться его устойчивой работы никак не удавалось и пришлось даже получить второй, чтобы менять заклинивший. Ничего не помогало — ни регулярные чистки, ни набивка и смазка лент. Вылет без отказа мы уже считали удачей, а бывало, что за день он клинил по два раза. Потом вдруг в очередной раз оборвало ленту, но пулемет не заклинил и вдруг стал работать нормально. Мы на него дышать боялись, не трогали и не чистили, только пополняли ленту. Что произошло — так и осталось непонятным, но он отлично стрелял полтора месяца, пока вертолет не сбили 16 февраля...» Появление Ми-24П с двуствольной пушкой ГШ-2-30К в исполнении 9А623К, отличавшейся удлиненными на 900 мм стволами от применявшихся на штурмовиках Су-25, позволило снять большую часть проблем, свойственных пулеметным машинам. Неподвижная установка избавилась от дефектов системы наведения, но огонь теперь можно было вести только строго по курсу, наводя оружие на цель всей машиной, а эта роль отводилась командиру (что вызывало известную ревность операторов, оставшихся на «скамейке запасных»). Изрядная мощность и отдача даже приводили к задиранию хвоста и потере скорости при стрельбе, а сотрясениями иногда «выбивало» АЗР и оборудование. В зависимости от тактической обстановки и характера цели пилот мог по своему усмотрению выбрать режим огня. Избегая продолжительных очередей, «уводивших» вертолет, стрельбу обычно вели, выставив переключатели в положение «Очередь короткая/темп малый» и, наловчившись, могли ограничивать огонь одиночными выстрелами. Отменной была и точность огня: пушка позволяла вести прицельную стрельбу до двухкилометровой дальности, а на обычных дистанциях в несколько сотен метров опытный летчик одним-двумя снарядами срубал дерево или валил верблюда в караване. Полный боезапас в 250 патронов почти никогда не брали, довольствуясь 150 снарядами: при разумном использовании их вполне хватало, а выигрыш в сотню-полторы килограммов веса в полете положительно сказывался на маневренности и разгонных характеристиках вертолета.  Парковый день в 4-й эскадрилье 181-го ОВП. Работы ведутся на вертолете с подвесками бомб и заряженных блоков. Отказавший накануне пулемет снят, отсутствуют и рамы для «Штурмов». Кундуз, октябрь 1983 г  Экипаж Ми-24В 4-й эскадрильи 181-го ОВП — летчик Ефименко (справа) и оператор Прямое. Вертолет несет бомбы ОФАБ-100-120 и блоки Б8В20. Кундуз, октябрь 1983 г Тяжелые ленты снаряжались патронами с 400-граммовыми осколочно-фугасно-зажигательными снарядами ОФЗ-30-ГШ и трассирующими ОФЗТ-30ГШ, а также специальными «многоэлементными» снарядами МЭ. Последние содержали по 28 пуль в пакетах с вышибным зарядом, сохранявших убойную силу в 400 м от точки разрыва снаряда. В отличие от пулеметного боекомплекта, патронную ленту было удобнее укладывать, заправляя в откидывающийся вместе с пушкой патронный ящик (впрочем, в нелегкой работе службы вооружения удобство было понятием относительным). По словам В. Паевского, «обычно ленту укладывали прямо из ящиков, в которых привозили к вертолету, не связываясь ни с какими приспособлениями — так оно и быстрее, и проще. Перед зарядкой ее полагалось обильно смазать пушечной смазкой №9, после чего вдвоем-втроем подхватывали увесистую и жирную, всю в смазке, ленту, норовящую сложиться под собственным весом веером то наружу, то внутрь, — кстати, каждое звено со снарядом тянет примерно под килограмм. Вес этот держишь на руках, а «играющая» лента защемляет пальцы и ногти до синевы; часы не снял, — считай, пропали, у меня за время службы на Ми-24П поменялся с десяток». Бронебойно-разрывные снаряды БР-30-ГШ использовались мало: для «болванок» с небольшим 14,6-граммовым зарядом ВВ целей не находилось. Рассчитанный на встречу с броней взрыватель не срабатывал при попаданиях в слабую преграду, и снаряд мог прошить машину насквозь, не взорвавшись, а разрывы на земле, по которым можно было бы откорректировать огонь, почти не были заметны из-за того же низкого фугасного эффекта, обусловленного малым количеством взрывчатки. Пушка ГШ-2-30К оставалась любимым оружием как у летчиков, так и у оружейников, хотя при интенсивной работе не обходилось без отказов. Причинами могли являться износ деталей, небрежная набивка лент, грязь и песок на патронах, забивавшие приемник и пушечный отсек. По регламенту предписывалась обязательная чистка не позднее следующего дня после применения, а после каждых 600 выстрелов — чистка орудия с его снятием с машины и полной разборкой (занятие трудоемкое и отнимавшее массу сил, однако притом не очень эффективное, ведь уже через пару дней приемник ленты и кинематика вновь забивались пылью, превращавшей смазку в грязное месиво). На выручку приходили народные средства и смекалка: пушку, не разбирая, целиком промывали в керосине от грязи и нагара и несколько раз передергивали механизм, вынимая для более тщательной чистки только газовые поршни, приводившие в движение автоматику. Для защиты приемника от грязи ленту обильно набивали смазкой, и она шла в пушку буквально как по маслу, а грязь и нагар вместе с отработанной смазкой вылетали наружу. «Клины» при этом практически исключались: в 205-й ОВЭ осенью 1987 г. орудие на одном из Ми-24П без единого отказа и чисток проработало несколько месяцев, отстреляв 3000 снарядов! Удачное расположение пушки упрощало ее обслуживание, а электрическое воспламенение капсюля гарантировало от случайных выстрелов, не столь редких у пулеметов. Безопасность была не последним делом: при заклинивании застрявший в патроннике снаряд обычно приходилось разрубать на части, по кусочкам вытаскивая его наружу. Был случай, когда пушка помогла спасти вертолет на земле: севший на вынужденную Ми-24П оказался в окружении банды, и капитан В. Гончаров решил привлечь оружие помощнее, чем автоматы группы ПСС. Воевать в пешем строю ему не доводилось, но под рукой была пушка. Вертолет вручную развернули в направлении нападавших, летчик занял место в кабине и дал очередь. «Духи» залегли, прячась за камнями, потом стали перебегать, подбираясь с другой стороны. Повиснув на хвосте, бойцы ворочали вертолет из стороны в сторону, а летчик короткими очередями отбивался от душманов, пока не подоспела помощь. Часть пушечных машин несла лазерный дальномер, сопряженный с вычислителем прицела. Довольно компактное устройство было изготовлено на базе морского бинокля, приспособленного для этих целей. Дальномер существенно улучшал условия решения прицельной задачи, выдавая на прицел дальность до цели вместо прежнего «глазомерного» способа определения дистанции стрельбы, что положительно сказывалось на точности огня.  Ми-24П готовится к вылету на прикрытие авиабазы. Баграм, декабрь 1988 г Ми-24 мог нести до четырех ракетных блоков, однако такой вариант считался перегрузочным. Каждый снаряженный блок весил больше четверти тонны (260 кг), причем после пуска ракет они оставались висеть на подвеске форменным «решетом», ощутимо прибавляя аэродинамическое сопротивление, из-за чего обычно дело ограничивалось парой блоков. Поскольку для наведения и прицеливания при стрельбе НАР требовалось «направлять» их маневром всей машины, управление огнем из блоков было выведено к командиру. Предусматривалась и возможность стрельбы НАР оператором с наведением по прицельной станции, благо и в его кабине имелась ручка управления, позволявшая пилотировать машину в случае выхода из строя командира. При этом все управление вооружением переключалось на кабину оператора. «Разделение труда» предусматривалось и при использовании бомбардировочного вооружения: в таком варианте вертолет мог нести до четырех бомб по 100 или 250 кг либо две по 500 кг. На Ми-24Д бомбометание выполнял оператор с помощью своей станции КПС-53АВ, летчик мог сбросить бомбы только в аварийном режиме. На Ми-24В и пушечных машинах с более совершенным автоматическим прицелом летчика АСП-17В прицельное бомбометание мог произвести и командир. Для прицельного бомбометания на Ми-24Д и Ми-24В использовался бортовой вычислитель стрельбы и бомбометания ВСБ-24, обычно применявшийся в полуавтоматическом режиме (работа в «автомате» в горах давала слишком много промахов). Летчик Ми-24 Е.Е. Гончаров, служивший в Кундузском 181-м ОВП, рассказывал: «Некоторые говорили, что прицел в горах бесполезен, так что народ изобретает всякие способы, рисует перекрестья на лобовом стекле и прочее. Даже при подготовке указывали: «в горной местности АСП-17В и ВСБ-24 не применяются, так как работа в автоматическом режиме ненадежна». Нам приходилось работать с высоты, держась повыше досягаемости стрелкового оружия, и прицел давал вполне нормальные результаты. Понадобилось, конечно, приспособиться: первое время бомбы укладывались с точностью метров до ста, а то и больше, но через пару месяцев начали попадать прямиком в цель, а потом даже появилась возможность сократить ударные группы — три из четырех бомб ложились прямыми попаданиями. Действия экипажа при нормальной работе прицела здорово упрощаются. Оператор накладывает марку прицела на цель, включает режим и сопровождает цель, удерживая на ней марку. У летчика на его прицеле индикатор указывает положение цели, слева или справа, и тот старается вести вертолет на боевом курсе по указаниям индикатора точно через цель, держа скорость и высоту (визуально ему цель не видно, так как она сразу уходит под вертолет). Вычислитель в нужный момент дает зуммер, и оператору остается только нажать кнопку сброса. Когда набьешь руку, не нужно расходовать бомбы на «пристрелку» и даже разговоры в эфире лишние не нужны с группой целеуказания и наводчиком». Впрочем, другие больше полагались на меткий глаз и навык, выполняя бомбометание по своим ориентирам, целясь по кончику ПВД или нижнему обрезу бронестекла и резонно указывая, что важен результат и «надо попадать, а не целиться». Обычным вариантом снаряжения вертолета Ми-24 была комбинация из двух блоков и двух бомб калибра 100 кг. Загрузка вертолета блоками и бомбами по 250 кг применялась реже. В частности, по данным за 1984 г., такое вооружение Ми-24 несли только в 16% вылетов (все-таки вертолет при этом становился на полтонны тяжелее). Бомбы всегда подвешивали на внешние держатели, поскольку подкатить их ко внутренним мешали колеса основных стоек шасси. «Пятисотки» применялись нечасто, в основном при крайней необходимости. Вертолет с такой нагрузкой становился тяжелым и неповоротливым, да и при подвеске бомбы были неподъемными и вручную управиться с ними оказалось невозможно. К тому же после бомбометания вертолет оставался с одним только пулеметом: блоки из-за перегруза при этом не брали. В Кандагаре за весь 1982 г. бомбы ФАБ-500 на Ми-24 использовались всего четыре раза. В одном таком случае в ноябре 1982 г. капитан Анатолий Чирков из известной «александровской эскадрильи» наносил удар по собравшемуся в одном из кишлаков исламскому комитету. Целью служил большой глинобитный дом-сушильня, где совещались местные вожаки. Объект выглядел настоящей крепостью, однако «пятисотки» первым же ударом накрыли его и развалили вместе с «активистами». 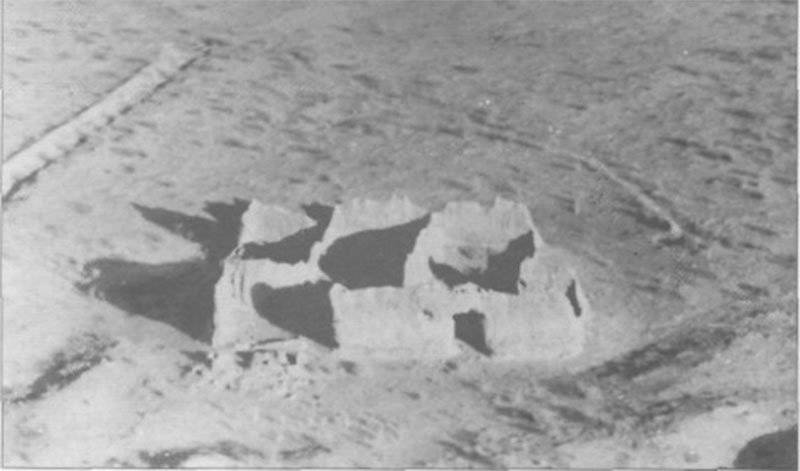 Душманский дувал после вертолетной атаки. Рядом видны окоп и воронки от бомб. Окрестности Кандагара, осень 1987 г В Газни в мае 1987 г. тяжелыми бомбами и вовсе чуть было не наделали вреда самим себе. Ночью дежурная группа поднялась по вызову батальона охраны для удара по замеченной рядом банде. Цель указали осветительной миной. На Ми-24 с вечера висели ФАБ-500, ими и отработали по подсвеченному месту. Летчики только что прибыли с заменой и, по незнанию, бросали бомбы залпом и с небольшой высоты. Вертолеты подбросило на сотню метров, по счастью, не задев осколками. На земле их уже встречал комэск: «Пятисотки» отставить, впредь — только 250 килограммов и по одной». Оказалось, что разрывы легли неподалеку от жилого городка, там все ходило ходуном и в модулях повылетали стекла. В ходе доработок на Ми-24 всех модификаций, использовавшихся в ВВС 40-й армии, была обеспечена возможность подвески многозамковых бомбодержателей МБД2-67у. С использованием пары таких держателей вертолет мог нести до десяти бомб калибра 100 кг (по четыре на каждом из держателей и еще две на свободных крыльевых узлах). Точность такого бомбометания оказалась невелика, однако подобный вариант вооружения, прозванный «ежиком», нашел применение при минировании. Пара вертолетов обеспечивала укладку достаточного числа мощных бомбовых «мин» в нужном месте, уложив два десятка «соток» у враждебного кишлака или душманского лагеря и надежно блокировав всякие передвижения на подступах к ним. С той же целью Ми-24 дорабатывались под установку контейнеров мелких грузов КМГ-У, которые могли нести как мины, так и мелкие бомбы, использовавшиеся для минирования. Каждый КМГ-У вмещал по 1248 мин ПФМ-1. При подвеске четырех КМГ-У вертолет мог засеять незаметными минами-«бабочками» обширный участок, в полосе которого площадь и плотность минирования зависели от режима разгрузки, задававшегося управлением контейнера, имевшего четыре различавшихся интервала выброса блоков с боеприпасами — от 0,05 до 1,5 с.  Полный боекомплект к пулемету ЯкБ-12,7 составлял 1470 патронов. 262-я ОВЭ, Баграм, лето 1987 г На вертолетах нашли применение также объемно-детонирующие авиабомбы (ОДАБ) — оружие новое и на тот момент никому не знакомое. Воспользовавшись возможностью опробовать их в боевой обстановке, ОДАБ пустили в дело уже в первый военный год. На практике, правда, оказалось, что боеприпас необычного устройства с содержимым из жидкого взрывчатого вещества, требующего целой системы зарядов для рассеивания и подрыва детонирующего облака, довольно капризен и чувствителен ко внешним условиям. На формирование взрывчатого тумана могли повлиять температура, плотность и влажность окружающего воздуха, а также ветер, препятствующий созданию оптимальной концентрации аэрозоля, окутывающего цель. В результате срабатывали далеко не все сброшенные бомбы (по опыту американцев, впервые испытавших боеприпасы объемного взрыва во Вьетнаме, и вовсе взрывалось от 30 до 50% таких бомб). По-видимому, впервые использование ОДАБ с вертолетов имело место в августе 1980 г. летчиками кундузской эскадрильи Ми-24. Ликвидируя душманские засады в Файзабадском ущелье, вертолетчики работали звеном, в котором ведущая пара несла по две ОДАБ-500, а замыкающие — блоки с ракетами. Замкомэска Алаторцев так описывал организацию налета: «Шли на высоте больше обычной, держась на 300 метрах, поскольку у ОДАБ осколков хоть и нет, нов корпусе много всякой требухи и при срабатывании эти железки разлетаются вверх метров на 200. Сами бомбы тоже какие-то необычные, чушки с округлым рылом, вроде бочек, с хлюпающим внутри содержимым. Нам доводили, что при испытаниях ОДАБ не все ладилось, что-то в начинке не срабатывало как надо и могло не сдетонировать. Решили, что процесс получится поддержать ракетами, так оно и вышло. После сброса внизу поднялось облако, даже с виду тяжелое и вязкое, и в этот маслянистый туман тут же вошли ракеты с ведомых. Рвануло будь здоров, швырнуло вертолеты, только зубы лязгнули. Взрыв по виду тоже не похож на обычные бомбы, от которых только пыльный фонтан и дымное облако, а тут — вспышка и огненный шар, долго клубящийся внизу. Ударная волна у бомбы пожестче, чем у обычных, ну и огнем там внизу все добивает. Эффект в сочетании ударного давления, вроде фугасного, и высокой температуры. Десантники рассказывали потом, что оставшиеся на месте «духи» были в жутком виде — трупы обгоревшие, с выбитыми глазами, кто выжил — и те контуженные, со рваными легкими, ослепшие и оглохшие». 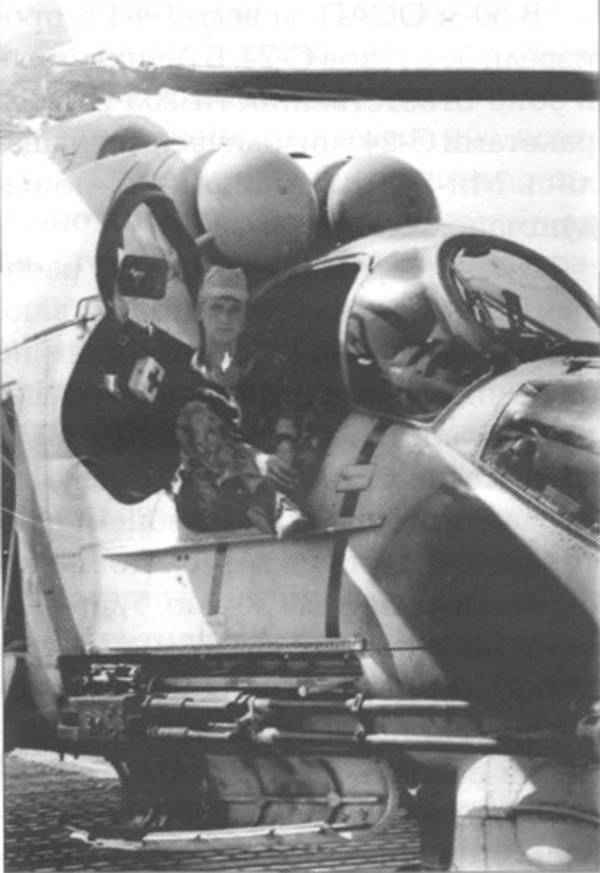 На борту Ми-24П хорошо видны подкрепления из уголков и усиление борта, потребовавшиеся ввиду большой отдачи пушки. В кабине — борттехник вертолета Иосиф Лещенок. 205-я ОВЭ, Кандагар, осень 1987 г При удачном использовании ОДАБ в афганской обстановке оказывались даже более действенным оружием, чем прочие боеприпасы. Раскаленное облако объемного взрыва проникало в пещеры и горные расщелины, огненным ударом накрывало каменные россыпи и лабиринты дувалов, настигая противника там, где он был неуязвим для обычных средств. ОДАБ нашли применение также при высадке воздушных десантов, когда перед посадкой вертолетов требовалось быстро и на большой площади устранить минную угрозу. Сброшенные ОДАБ проходились по площадке фронтом ударной волны с большим давлением, вмиг освобождая ее от мин. Хранить ОДАБ с чувствительным содержимым полагалось, защищая от прямых солнечных лучей и перегрева. На деле никаких навесов на складах боепитания не водилось, и хорошо, если бомбы прикрывали от солнца хотя бы брезентом («это у американцев что солдаты, что бомбы балованные, склады с кондиционерами им подавай»). Впрочем, применению ОДАБ препятствовали не только особенности устройства: оказалось, что это оружие, помимо эффективности, успело заслужить в ряде конфликтов репутацию «негуманного», как вызывающего чрезмерные страдания людей. ООН успела заклеймить боеприпасы объемного взрыва как противоречащие принятым нормам ведения вооруженной борьбы. Женевским чрезвычайным комитетом по обычному оружию в 1976 г. и вовсе была принята резолюция о признании боеприпасов объемного взрыва видом оружия, по квалификационным признакам требующим запрещения. Хотя никто из стран-обладателей такого оружия и не подумал с ним расставаться, мнение международного сообщества приходилось принимать во внимание. На случай приезда журналистов и всякого рода иностранных представителей, время от времени появлявшихся в Афганистане с гуманитарными миссиями, бомбы старались убирать подальше от чужого глаза и воевать только «гуманным образом». Уничтожение живой силы оставалось первоочередной задачей противопартизанской войны: в дело шли НАР С-5С и С-8С, начиненные блоками стальных оперенных стрел по 1100 и 2200 штук соответственно. Стрельба ими, однако, требовала тщательного выдерживания дальности, чтобы пучок «картечи» сохранял убойную силу и не разлетался впустую. Применение боеприпасов, «неизбирательно» решетивших все на своем пути ливнем стрел, тоже противоречило ряду международных конвенций, из-за чего командование ВВС 40-й армии, руководствуясь «спускаемыми сверху» распоряжениями, то запрещало их, то вновь разрешало, хотя летчики высоко ценили это оружие «местного массового поражения». Вертолетчикам в Файзабад зимой 1981 г. однажды привезли полсотни ящиков с С-5С. Расстреляли их за день, запросив еще. Вместо боеприпасов примчался начальник службы вооружения полка, потребовавший немедля вернуть все ракеты с «гвоздями» обратно. Из шестисот штук ему смогли предъявить лишь две, «кривоватые», которые залежались только потому, что не лезли в стволы. Ракетные блоки под 57-мм снаряды типа С-5 с 1982 г. начали сменять новые пусковые Б-8В20 под более мощные НАР типа С-8 калибра 80 мм. Под них дорабатывались находящиеся в строю машины, а вертолеты новых серий сразу получали более современное вооружение. Превосходство новых реактивных снарядов было настолько убедительным, что для ускорения перевооружения ими авиатехники появился специальный директивный правительственный документ — постановление комиссии по военно-промышленным вопросам при Совете Министров СССР от 27 июля 1984 г. об ускоренном внедрении НАР семейства С-8. Со ссылкой на афганский опыт требовалось увеличить выпуск новых ракет, наращивая объемы производства за счет сокращения производства 57-мм снарядов. Впрочем, и С-5 не прекращали использовать до последних дней войны.  Солдаты-вооруженцы Ширалиев и Хазратулов разряжают пушку перед чисткой. Рядом с инструментами лежит извлеченный из казенника патрон с бронебойно-разрывным снарядом. 205-я ОВЭ, Кандагар, осень 1987 г В дело шли снаряды самых разных типов и моделей, причем время от времени среди завозимых боеприпасов попадались НАР самых ранних образцов. Для расходования накопленных припасов тыловики подчищали склады в Союзе, и в части завозились даже С-5 первых модификаций, выглядевшие настоящими раритетами. Такие изделия отличались не только маломощностью, вдвое уступая в поражающем действии более современным образцам семейства, но и требовали куда больше времени и усилий при подготовке: каждую такую ракету перед зарядкой требовалось снарядить взрывателем, шедшим отдельно, который специальным ключом вкручивался в корпус. Учитывая, что на один только вертолет надо было подготовить 64 ракеты, можно представить, скольких хлопот это стоило. Встречались даже снаряды модификаций С-5М и С-5К образца 1950-х гг., имевшие собственные электрические вилочки, каждую из которых при зарядке нужно было вставить в соответствующий разъем блока, а сам блок предварительно переоборудовать с установкой набора дополнительных деталей. Многие такой «антиквариат» двадцатилетней давности и дома не успели застать, и как обращаться с ними — помнили только ветераны групп вооружения. Снаряды поновее имели встроенный взрыватель и требовали куда меньше забот, будучи сразу готовыми к применению. Некоторые Ми-24 были доработаны под установку крупнокалиберных реактивных снарядов С-24 и С-25, а также С-13, применявшихся в пятизарядных блоках. Достоинством крупнокалиберных ракет была внушительная дальность прицельного пуска, позволявшая поражать цели с безопасного расстояния без входа в зону ПВО противника, однако широкому распространению такого оружия препятствовали особенности самих ракет, оснащенных мощным двигателем, работа которого могла вызвать помпаж силовой установки вертолета. Машину при пуске тяжелых НАР буквально захлестывало шлейфом газов ракетного «пороховика», и для стрельбы требовалось тщательно выдерживать параметры полета вертолета, при пуске ракет переводя его двигатели на пониженный режим. В 50-м ОСАП под тяжелые ракеты С-24 в 1984 г. переоборудовали четыре Ми-24, аналогичную доработку прошла часть вертолетов 335-го ОБВП, 280-го и 181-го ОВП. Имелись такие машины также в 262-й, 205-й и 239-й отдельных эскадрильях. Пуски доверялись лишь самым опытным летчикам, и то применялись тяжелые снаряды только время от времени, когда возникала необходимость поражения защищенных и прикрываемых зенитным заслоном целей. Помимо высокой точности, снаряды обеспечивали значительную площадь поражения, особенно при оснащении неконтактным радиовзрывателем РВ-24, подрывавшим снаряд над целью, осыпаемой тысячами осколков сверху, с самой незащищенной стороны. В 50-м ОСАП за весь 1984 г. произвели 50 пусков С-24. В Лашкаргахе, в зоне ответственности 205-й ОВЭ, ракетами С-24 эпизодически оснащались Ми-24, вылетавшие на поиск душманских караванов. В кандагарском 280-м полку работа с С-24 привела к происшествию, непосредственно со снарядами и не связанному, но завершившемуся поломкой вертолета. В августе 1987 г. группа Ми-24 утром вылетела на удар, однако при заходе на бреющем против солнца один из вертолетов задел бархан и «вспахал» землю. Удар оказался настолько чувствительным, что заклинило дверь летчика и люк оператора. Пришлось стрельбой из автоматов разбить фонари, чтобы выбраться наружу. В оправдание говорилось, что машина была изрядно перетяжелена подвеской, тянувшей за тонну. Тем не менее летчиков подвергли «высшей мере», списав с летной работы в авианаводчики. Пострадавшие могли считать, что им еще повезло: вертолет от удара изрядно деформировался, оказавшись буквально скрученным штопором. Ремонтная бригада долго билась над его восстановлением, однако летать на «инвалиде» никто не решался, и его списали в одно из училищ в качестве наглядного пособия. Применение еще более внушительных С-25 и вовсе ограничилось несколькими пробными пусками. Носить четырехсоткилограммовый снаряд могли не все самолеты, а на вертолете сход С-25 сопровождался таким шлейфом пламени и грохотом, что все дружно решили, что это никак не вертолетное оружие. Оснащенность Ми-24 комплексом управляемого вооружения выделяла его среди прочих типов самолетов и вертолетов, находившихся в составе ВВС 40-й армии. Боевые вертолеты являлись единственными изо всех, кто таким оружием располагал достаточно продолжительное время — до самого 1986 г., когда управляемые ракеты начали использовать и на штурмовиках Су-25. Впрочем, и в последующие годы на штурмовиках управляемое вооружение не стало массовым и применялось лишь эпизодически, будучи оружием достаточно дорогим. Доверялось оно только наиболее подготовленным летчикам. В противовес этому практически все экипажи Ми-24 могли работать управляемыми ракетами, и вертолеты несли ПТУР буквально в каждом полете. В определяющей мере этому способствовала отработанность комплекса управляемого вооружения, его хорошая освоенность строевыми экипажами, а также невысокая по сравнению с другими видами управляемого вооружения стоимость. ПТУР обладали высокой эффективностью, хорошей точностью и большой поражающей мощностью при значительной дальности стрельбы, ограничивавшейся практически только возможностью визуальной видимости цели. Первое время, однако, случаи применения ПТУР были нечастыми. Так, за весь 1980 г. число использованных ПТУР ограничилось 33 единицами. В этот период в Афганистане находились преимущественно вертолеты Ми-24Д. Эта модификация несла ракетный комплекс 9П145 « Фаланга-ПВ» с полуавтоматической радиокомандной системой наведения, довольно эффективный и обеспечивавший дальность стрельбы до 4000 м. Ракеты являлись достаточно внушительными изделиями, имевшими крыло без малого метрового размаха, из-за чего их наличие на подвеске отражалось на поведении вертолета. Громоздкость «Фаланги» сказывалась и при подготовке машины. ПТУР поставлялась в неподъемном шестидесятикилограммовом ящике, который требовалось подтащить к вертолету, со всеми предосторожностями извлечь ракету, развернуть и зафиксировать крыло, проверить зарядку воздухом, состояние трассеров и трубопроводов, литеру и код системы наведения, после чего установить увесистое изделие на направляющие, подсоединить разъем, зафиксировать его и снять струбцины с рулей. На всю процедуру уходило 12-15 мин.  Вертолет Ми-24В, подготовленный к вылету на патрулирование аэродрома. Баграм, 262-я ОВЭ, осень 1988 г  Пример фюзеляжной живописи на Ми-24В. Похожие рисунки к концу войны несли и другие вертолеты 262-й ОВЭ Вскоре в части начали поступать более современные Ми-24В, отличавшиеся новым прицельным оборудованием летчика вместо прежнего простенького коллиматорного прицела, а также ракетным комплексом нового поколения 9К113 «Штурм-В» со сверхзвуковыми ракетами 9М114. Достоинством «Штурма» была не только повышенная точность и дальность, доведенная до 5000 м, но и удачное в эксплуатации решение ракеты, поставлявшейся прямо в пусковом контейнере-трубе, в котором она и подвешивалась на вертолет. Пластиковые трубы были удобны в транспортировке и хранении и крайне нетребовательны в подготовке: для установки «Штурма» достаточно было поместить контейнер на опоры и поворотом ручки закрыть замки. Сами ракеты поставлялись в вариантах «Штурм-В» и «Штурм-Ф» с пятикилограммовой кумулятивной и фугасной боевой частью. Последняя имела снаряжение объемно-детонирующего действия с жидкой взрывчаткой, в устройстве которой удалось избавиться от недостатков первых образцов таких боеприпасов, и отличалась значительно большей надежностью и эффективностью. Любопытно, что в строю многие даже не догадывались о начинке ракеты, считая, что та несет обычный фугасный заряд («Штурм-Ф» отличался от противотанкового кумулятивного варианта заметной желтой полосой на пусковой трубе). Пуск ПТУР выполнял оператор, наводивший ракету с помощью прицельного комплекса «Радуга-Ш» (на Ми-24Д использовалась аппаратура прежней «фаланговской» комплектации «Радута-Ф»). Обнаружив цель с помощью оптики прибора наведения, оператор переводил его в узкое поле зрения и дальше только удерживал метку на цели, а радиокомандная линия сама вела ракету до попадания. Установка оптической головки наблюдения на гиростабилизированной платформе помогала сохранять цель в поле зрения и удерживать наложенную на нее метку, а сверхзвуковая скорость ракеты сокращала продолжительность ее полета до встречи с целью и, соответственно, время занятости оператора в наведении до нескольких секунд (прежде вертолет должен был оставаться на боевом курсе вдвое-втрое дольше, что было небезопасно при зенитном воздействии противника). Стабилизация поля зрения в ходе наведения позволяла вертолету выполнять противозенитные маневры с уклонением от направления на цель до 60° и кренами до 20°. Некоторые проблемы чувствительному оборудованию доставляла работа пулемета и особенно пушки: грохочущее оружие сотрясало машину; из-за вибраций подтекали гидродемпферы, и рабочая жидкость стекала в находящийся тут же прибор наведения, заливая оптику. Блок «Радуги» приходилось раскручивать и чистить от жирной жидкости (кто поленивее обходился тем, что откручивал пробки, сливал жидкость и кое-как протирал стекла ваткой на проволоке).  Пуск ракет С-24 с борта Ми-24. Обычно рекомендовался одиночный пуск тяжелых снарядов как меньше влияющий на работу двигателей вертолета Все эти достоинства ПТУР летчики высоко оценили, и «Штурм» стал весьма популярным оружием. Поражающего действия ракеты было достаточно для борьбы с самыми разными целями — от машин в душманских караванах до огневых точек и укрытий. При этом не играло особой роли, фугасная применялась ракета или кумулятивная — мощи заряда, способного пробить полуметровую броню, хватало с лихвой, чтобы разнести дувал или другое строение. Обычным делом была стрельба ПТУР с предельных дистанций, порядка 3500—5000 м, в том числе и по зенитным средствам для расчистки зоны действий ударной группе. Фугасные «Штурмы» становились особенно действенными при поражении пещер, в которых засевший противник для иных средств был практически неуязвим, а его огонь оттуда оказывался губительно точен. Ограниченные объемы идеальным образом содействовали срабатыванию начинки ракеты с максимально эффективным развитием фугасного удара. О массовости применения ПТУР уже в 1982 г. свидетельствуют масштабы их использования в Панджшерской операции: за период с 17 мая по 10 июня этого года, менее чем за месяц, были израсходованы 559 управляемых ракет(в среднем, по полтора десятка на каждый участвовавший в боевых действиях Ми-24). Точность попадания ПТУР по небольшим объектам типа грузовика составляла порядка 0,75—0,8, а по строениям и другим подобным целям практически приближалась к единице. Любопытное замечание содержалось в одном из отчетов по эффективности техники и вооружения: опрошенные летчики сетовали, что применение ПТУР сдерживается «недостаточным количеством подходящих целей». В качестве примера приводились действия вертолетного экипажа командира эскадрильи 181-го ОВП подполковника Н.И. Ковалева, уничтожившего за месяц боевой работы на Ми-24П восемью ракетами «Штурм-В» восемь объектов мятежников, т.е. каждая ракета была уложена точно в цель (Герой Советского Союза Николай Ковалев погиб со всем экипажем 1 июня 1985 г. в сбитом вертолете, взорвавшемся в воздухе после поражения ДШК). Примеров удачного применения «Штурма» было множество, в том числе и в дуэльных ситуациях против огневых точек и зенитных средств. В августе 1986 г. звено вертолетов 181-го полка под началом майора А. Волкова вылетело для удара по пристанищу местного вожака «инженера Салима». Кишлак в горах у Пули-Хумри, служивший базой душманов, имел хорошее зенитное прикрытие. С учетом этого атаку спланировали с применением ПТУР, а сам вылет наметили на раннее утро. Первым же заходом Ми-24 старшего лейтенанта Ю. Смирнова «Штурмы» всадили прямо в строение, похоронив его обитателей в пыльных развалинах. Несколько раз ПТУР использовались «по непосредственному назначению », для борьбы с бронетанковой техникой — оказавшимися в руках душманов БТР и танками. 16 января 1987 г. вертолетчики 262-й ОВЭ получили задачу уничтожить захваченный душманами БТР, из которого те вели огонь по постам охраны у Баграмского аэродрома. В воздух подняли звено Ми-24, в три захода отстрелявшихся по цели ПТУР и для гарантии отработавших еще и пушечным огнем и залпами НАР, после чего с соседних постов с удовлетворением сообщили о наступлении «тишины и покоя». Парой месяцев спустя звено Ми-24 вылетело на подавление досаждавшей огневой точки у Баграма. Все вертолеты пустили по четыре «Штурма»; вернувшиеся летчики докладывали о наблюдавшихся попаданиях точно в окна дувала. Подтверждением эффективности «Штурма» на Ми-24В, как и стоявшего на нем прицельного комплекса с хорошими возможностями, стала распространенность «полосатых» этой модификации, вскоре «выживших» прежние Ми-24Д. Так, к осени 1984 г. в кундузском 181-м ОВП оставался единственный Ми-24Д, который на боевые задачи старались не посылать, используя его в качестве связного и «почтовика». Оригинальную доработку провели осенью 1987 г. в Кандагаре, где десяток машин получил по два пусковых устройства АПУ-60-1 под заимствованные у истребителей ракеты Р-60. Эти ракеты, созданные для ближнего воздушного боя, вертолеты должны были нести на случай встречи с «духовскими» самолетами и вертолетами, донесения о залетах которых с пакистанской стороны появлялись время от времени, но встретить их «живьем» так и не удавалось. Для воздушных целей предназначались Р-60 на левом пилоне, правая АПУ была наклонена вниз, чтобы ее тепловая ГСН могла захватить наземную «горячую» цель — костер или двигатель автомашины. По результатам испытаний Р-60 на вертолетах, однако, было известно, что ракеты по подобным воздушным целям с малой тепловой контрастностью не очень эффективны и способны захватить чужой вертолет максимум с 500-600 м, а поршневого «нарушителя» и того меньше. Р-60 устанавливались и на Ми-8, но об успехах их применения автору ничего не известно. Помимо повышения эффективности оружия, уделялось внимание и его надежности. Удалось повысить ресурс многих систем и их «работоспособность» как ответ на напряженные условия эксплуатации. Перечень новшеств и доработок был бесконечным — от новых типов боеприпасов до более «выносливых» марок сталей и элементной базы РЭО, способных выдержать самые жесткие режимы работы. К числу проблем, решить которые так и не удалось, следует отнести обеспечение ночной работы. Потребность в вылетах на поиск противника, свободнее себя чувствовавшего под прикрытием темноты, оставалась насущной все время, однако доля вылетов, а главное - их результативность, были невелики. Для подсветки места удара вертолеты несли 100-кг светящие авиабомбы (САБ), дававшие факел светосилой 4-5 млн. свечей на протяжении 7-8 мин (время, достаточное для пары атак). При необходимости, имелась возможность осветить цель сходу, пустив по курсу специальные НАР С-5-О, развешивавшие в 2500-3000 м перед вертолетом мощные факелы на парашютах. Однако для удара требовалось сначала обнаружить цель, а достаточно эффективных приборов ночного видения и ночных прицелов вертолетчики так и не получили. При патрулировании использовались очки для ночного вождения техники ПНВ-57Е, однако в них можно было разглядеть только общую «картинку» местности на небольшом расстоянии. Пробовали работать с танковыми прицелами, ноте имели ограниченную дальность, различая машину на расстоянии 1300-1500 м. Невысокой разрешающей способностью обладали и ночные приборы наблюдения разведчиков. Полагаться приходилось на лунные ночи, острый глаз и удачу, позволявшие заметить крадущийся караван или костер привала. Такие вылеты доверялись самым опытным экипажам, и все же эффективность их оставалась невысокой, а расход боеприпасов — нерациональным. На месте удара утром обычно не обнаруживали никаких следов атакованного противника (если что и оставалось после налета, то оружие и прочее добро успевали растащить уцелевшие). В то же время риск налететь во мраке на скалу или задеть другое препятствие при маневре был слишком большим, из-за чего ночную работу то и дело запрещали, делая исключение только для круглосуточного патрулирования хорошо знакомых окрестностей гарнизонов и аэродромов, защищавшего их от обстрелов и диверсий. Другим постоянно действующим и, в прямом смысле, жизненно важным фактором было совершенствование защищенности Ми-24. Бронирование Ми-24 признавали хорошим: помимо накладных броневых стальных экранов по бортам кабин летчика и оператора (вопреки популярным представлениям, броня вертолета была именно накладной и крепилась к конструкции снаружи на винтах), экипаж прикрывался передними бронестеклами внушительной толщины, а сиденье летчика оборудовалось бронеспинкой и бронезаголовником. Броней на капотах защищались также агрегаты двигателей, редуктор и гидроблок. Тем не менее с нарастанием числа огневых средств у противника вертолеты все чаще подвергались обстрелу, калибр и мощь зенитных средств росли, количество попаданий множилось, становясь настоящей и весьма жесткой проверкой на уязвимость и выявляя слабые места боевого вертолета. Что касается защиты экипажа, то большинство пуль приходилось на находящуюся впереди кабину оператора, броня которой не всегда могла противостоять крупнокалиберному оружию. Из числа пуль, «принимавшихся» бронезащитой операторской кабины, 38-40% пробивали ее, тогда как у летчика их доля составляла вдвое меньше, 20-22%. Даже без сквозного пробития брони удар тяжелой пули ДШК или ЗГУ был способен выбить с тыльной стороны бронелиста массу вторичных осколков, представлявших немалую опасность: мелкие стальные «щепки» веером летели в кабину, причиняя ранения летчикам и решетя оборудование, электроарматуру и прочую начинку кабины. Мощные лобовые бронестекла ни в одном случае не были пробиты пулями и осколками, даже при попадании пуль калибром 12,7 мм. При этом отмечалось возвращение вертолетов со множественными следами от пуль на бронестеклах (в одном таком случае на стекле остались отметины от шести пуль, превративших его в крошево, но так и не прошедших внутрь). В большинстве случаев в составе экипажей от поражения страдал оператор. Впрочем, как это ни жестоко звучит, лучшая защищенность именно командира была просчитанной и определяющей, имея свое рациональное обоснование для выживаемости как самой машины, так и экипажа: сохранивший работоспособность летчик мог дотянуть домой даже на поврежденном вертолете и при выходе из строя других членов экипажа, тогда как его гибель или даже ранение такого исхода не обещали (до 40% потерь вертолетов происходило именно по причине поражения летчика). В ходе Панджшерской операции, в первый же ее день, 17 мая 1982 г., были сбиты сразу два Ми-24. Причиной поражения в обоих случаях явился прицельный огонь из ДШК по кабине экипажа, приведший к потере управления, столкновению с землей и разрушению вертолетов. Еще одна машина попала под огонь зенитной установки, находясь на высоте 400 м, однако пули прошли в кабину, разбив остекление и ранив летчика. Выручила слетанность экипажа: борттехник пробрался к командиру и оказал ему помощь, а управление перехватил оператор, он и привел искалеченный вертолет домой. 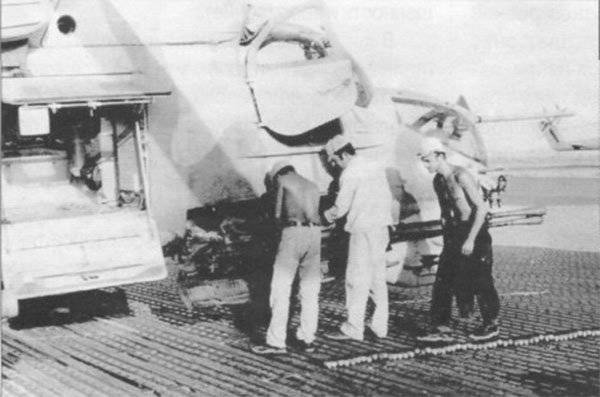 Группа вооружения занимается зарядкой патронной ленты к пушке Ми-24П. Обычно, щадя силы и время, укладывали неполный боекомплект из 120-150 патронов, которого хватало для выполнения большинства задач  Доставка патронных лент к вертолетам 205-й ОВЭ. Транспортным средством служит двигательная тележка — других средств механизации в эскадрилье не имелось. Кандагар, лето 1987 г 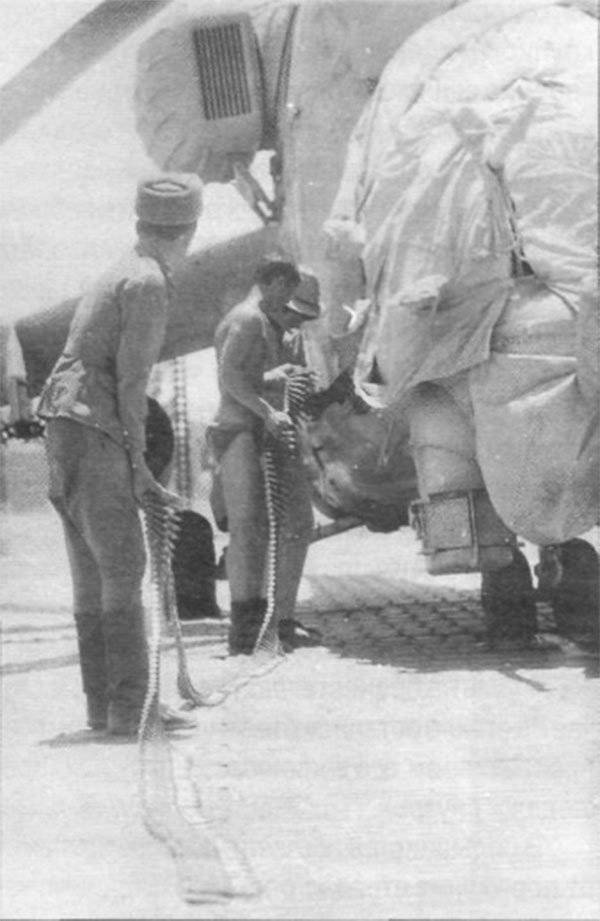 Зарядка патронной ленты к пулемету ЯкБ-12,7 вертолета Ми-24В. В афганском климате холодное утро быстро сменялось дневной жарой, из-за чего участвующие в работе выглядят на редкость разнообразно, сочетая зимние шапки и сапоги с трусами и летними панамами  Ми-24В в полете над Панджшерским ущельем. Вертолет несет блоки Б8В20 и «Штурм» с фугасной боевой частью с приметной маркировкой желтой полосой на пусковом контейнере. 262-я ОВЭ, лето 1987 г При возвращении из ночного разведывательного полета 1 октября 1983 г. под сосредоточенный огонь гранатометов и пулеметов попал Ми-24 джелалабадского 335-го ОБВП. Попаданиями размочалило лопасти винта, посекло тяги управления и двигатели. Удар пришелся также на кабину экипажа. На своем рабочем месте тяжелые ранения получил оператор лейтенант А. Патраков, через неделю скончавшийся от ран в госпитале. 22 апреля 1984 г. в ходе операции по захвату душманских складов у кишлака Айбак в зоне ответственности 181-го ОВП прикрывавшие десант Ми-24 оказались под огнем замаскированных ДШК. Стрельба велась из пещер на склоне горы, в упор. Первая же очередь прошла по вертолету ведущего. Пробив борт, две крупнокалиберные пули ранили оператора В. Макарова в руку (как потом выяснилось, было раздроблено 12 см локтевого сустава). Лейтенант, которому едва исполнилось 23 года, потерял сознание, но потом вновь пришел в себя и как мог продолжал помогать командиру в полете (проведя после в госпиталях почти год, он вернулся в строй и снова летал). Прикрывая 16 августа 1985 г. эвакуацию раненых у кишлака Алихейль под Гардезом, пара Ми-24П кабульского 50-го ОСАП занималась подавлением огневых точек противника. Как оказалось, душманы хорошо оборудовали позиции и располагали не только стрелковым оружием, но и крупнокалиберными установками. Командир звена капитан В. Домницкий так описывал произошедшее: «На выходе из атаки - снова удар по вертолету, и опять этот противный, едкий запах горелого металла в кабине... Нужно прикрывать ведомого, но чувствую, что у меня немеет от усилий рука на шаг-газе, с трудом тянется рычаг. Поднял руку, а на ней с тыльной стороны полтора десятка дырок и из них сочится кровь. Тут же обнаружил два осколка в ноге выше колена, еще и слева по борту разворотило панель управления топливной системой. На земле после выключения двигателей обнаружили, что пуля ДШК прошила снизу-сбоку вертолет, далее - откинутый бронезаголовник (ровненькое, чистое отверстие), затем выбила приличную ямку в бронеспинке кресла (при ударе еще мелькнула мысль, что борттехник толкается), отрикошетила в левый борт, перемешала переключатели и проводку топливной системы, снова отрикошетила от накладной внешней брони на борту, ударила в потолок кабины и далее... Обнаружили ее в кресле на парашюте. У меня из руки тогда вытащили 17 осколков». Несмотря на ранения (по счастью, незначительные), в тот же день капитан Домницкий вновь поднялся в воздух на своем вертолете. Однако судьба уже сделала свой выбор: изготовившись к встрече, противник ждал их на том же месте, где Ми-24 снова попал под прицельный огонь. Вертолет тряхнуло от ударов ДШК, простреленным оказался один из двигателей, после чего оставалось только тянуть на вынужденную посадку. Плюхнувшись на петлявшую по склону дорожку, единственное более или менее ровное место внизу, вертолет снес шасси и завалился набок, зарывшись в землю. Летчику-оператору С. Чернецову пришлось с помощью автомата разбить остекление, чтобы вытащить командира и борттехника. Месяц спустя, 14 сентября 1985 г., в той же вертолетной эскадрилье 50-го ОСАП погиб оператор Ми-24 лейтенант А. Миронов. В ходе операции в районе Кундуза задачу выполняли на севере, вблизи границы, столкнувшись с плотным огнем противника. Попадание пришлось в борт у передней кабины, причем удар был непривычно сильным. Командир С. Филипченко смог посадить вертолет, однако никто не мог понять, чем была поражена машина, у которой борт зиял множеством пробоин, на броне кабин была масса вмятин размером в несколько сантиметров, словно от крупной дроби и словно прожженных отверстий, а тело погибшего оператора было буквально изрешечено. По всей видимости, Ми-24 попал под выстрел РПГ, кумулятивная граната которого была способна пробить даже танк. При стрельбе по вертолетам душманы применяли РПГ осколочного снаряжения с большого расстояния, с расчетом срабатывания гранат на самоликвидации, происходившей на дистанции 700-800 м. При этом осуществлялся воздушный подрыв без прямого попадания, дававший направленный и мощный осколочный удар, способный причинить множественные повреждения. Напоминанием о грозном «буре» в 335-м ОБВП хранился бронешлем борттехника А, Михайлова, убитого 18 января 1986 г. уже на посадочном курсе снайперской пулей, насквозь пробившей борт вертолета и шлем. В другом случае в Газни титановая броня ЗШ-56 спасла летчика, сохранив внушительную вмятину от скользнувшей очереди (но не защитив его от насмешек коллег - «не каждая голова устоит против ДШК!»). В качестве экстренной меры уже в первый военный год на Ми-24 начали устанавливать дополнительные бронестекла кабин. Поскольку летчики на своих рабочих местах были открыты до самых предплечий, в кабинах по бортам, со стороны внутренней поверхности блистеров, крепились специальные стеклоблоки из бронестекла в рамах на кронштейнах. Однако эта доработка оказалась не очень удачной: почти в 2 раза уменьшался полезный объем кабины в зоне блистеров, ухудшался обзор из-за массивных рам, которых летчики буквально касались головой . К тому же бронестекла были весьма массивными, давая прибавку веса в 35 кг и влияя на центровку. От этого варианта ввиду его непрактичности вскоре отказались (к слову, как отказались и от части бронирования в кабинах «восьмерок» в пользу сохранения обзора, не менее важного в боевой обстановке, чем защищенность и вооружение). В ходе доработок пятимиллиметровыми стальными листами дополнительно экранировались трубопроводы масло- и гидросистем, баки заполнялись пенополиуретановой губкой, предохранявшей от пожара и взрыва. Тросовую проводку управления рулевым винтом разнесли по разным сторонам хвостовой балки с целью снижения ее уязвимости (прежде оба троса тянулись рядом и неоднократно имели место случаи одновременного их перебития пулей или осколком). Помимо обязательных ЭВУ, «Липы» и ловушек АСО (без которых, как говорили, «летать в Афгане не стала бы и Баба Яга»), нашлось место и средствам активной обороны.  Последствия происшествия с вертолетом капитана Николаева из 262-й ОВЭ. После попадания пули ДШК вертолет лишился путевого управления, однако сумел сесть и уже на пробеге въехал в ангар. Машина была серьезно повреждена, но вскоре вернулась в строй, Баграм, март 1987 г  На месте гибели Ми-24В под Гардезом. Вертолет разбился, столкнувшись со скалой в «каменном мешке», оператор капитан 3. Ишкильдин погиб, командир капитан А. Панушкин ранен. 335-й ОБВП, 10 декабря 1987 г Ощутимым недостатком Ми-24 выглядело отсутствие кормовой огневой точки. Дома это никого не занимало, но в боевой обстановке стало вызывать нарекания, особенно в сравнении с Ми-8, у которого «хвост» был прикрыт. Впечатления летчиков подтверждала и статистика: избегая попасть под огонь спереди .противник старался поразить вертолет с незащищенных задних ракурсов. Так, на остекление кабины Ми-24 приходилось всего 18-20% повреждений от пуль с передней полусферы, против 40-42% у Ми-8 (отчасти это объяснялось и меньшей площадью остекления «двадцатьчетверки»). В отношении повреждений силовой установки эта зависимость была еще ярче: пылезащитные коки воздухозаборников, встречавшие шедшие спереди пули, получали у Ми-24 попадания в 1,5 раза реже, чем у Ми-8 (16-18% против 25-27%). Обеспеченность «восьмерок» огневой защитой задней полусферы (в чем на своем опыте скоро убедился противник) во многих случаях заставляла душманов воздерживаться от стрельбы с прежде привлекательных кормовых ракурсов. Наличие хвостового пулемета давало очевидные преимущества и в тактическом плане: количество попаданий на отходе от цели у Ми-8 было вдвое меньше, чем у Ми-24, по которым огонь вдогон можно было вести безбоязненно и не рискуя получить «сдачи» (в цифрах: Ми-8 на выходе из атаки получали 25-27% попаданий, тогда как Ми-24 на отходе от цели получали 46-48 % попаданий от их общего количества). Прикрытием вертолета от огня с уязвимых направлений на Ми-24 занимался борттехник, находившийся в грузовом отсеке. Стрелять из форточек, как это предусматривалось создателями вертолета, было крайне неудобно из-за ограниченного обзора и сектора обстрела. Для расширения проема при стрельбе использовали открывающиеся створки десантного отсека, позволявшие направить огонь вбок-назад. В десантной кабине держали пулемет (обычно все тот же надежный ПКТ), огнем из которого борттехник защищал вертолет на выходе из атаки, когда цель уходила под крыло, исчезая из поля зрения летчиков, или оказывалась сбоку при боевом развороте. Довольно долго пулеметы приходилось брать с битых Ми-8 или выторговывать у соседей, и лишь со временем они вошли в штат (обычно по одному на каждый вертолет эскадрильи, плюс один запасной). Многие экипажи не ограничивались одним стволом и брали по два пулемета, защищая оба борта и не тратя времени на перенос огня. На борту скапливался внушительный арсенал, на всякий случай с собой прихватывали еще и ручной пулемет (вести огонь из ПКТ с рук было невозможно). Кроме того, у каждого из летчиков, помимо личного пистолета, при себе всегда был обязательный автомат — «НЗ» на случай аварийной посадки или прыжка с парашютом (чтобы не потерять, его часто пристегивали ремнем к бедру). Штурман-оператор А. Ячменев из Баграмской 262-й ОВЭ делился пережитыми томительными ощущениями: однажды, залезая в кабину, он повесил автомат на ПВД и, забыв о нем, взлетел. Спохватился он уже в воздухе, не почувствовав привычной тяжести сбоку, а осмотревшись, заметил: «АКС-то остался за бортом, болтается перед носом, а не достанешь... чувствовал себя, как голый...» Хозяйственные борттехники прихватывали про запас трофейные пулеметы, и довооружение Ми-24 зависело только от способностей экипажа раздобыть и установить дополнительное оружие. Распространены были всякого рода «самопальные» доработки — упоры и прицелы, вплоть до снайперских. Недостатком было неудобство стрельбы из низкой кабины, где приходилось наклоняться или становиться на колени. Весьма элегантно решил эту проблему в 280-м полку капитан Н. Гуртовой, разжившись сиденьем с «восьмерки», которое он приспособил к центральной стойке десантного отсека и, не вставая, поворачивался на нем от борта к борту при переносе огня.  Ми-24П капитана Г. Павлова, подбитый у Бамиана. После выхода из строя гидросистемы и управления вертолет был разбит при аварийной посадке. Хозяйственный борттехник забирает из кабины пулемет ПК. 50-й ОСАП, 18 июня 1985 г. Умелые и слаженные действия помогли летчикам уцелеть в аварийной ситуации, однако командиру удалось выбраться из кабины, лишь разбив остекление  Справа налево: оператор Малышев, командир экипажа Павлов и борттехник Лейко 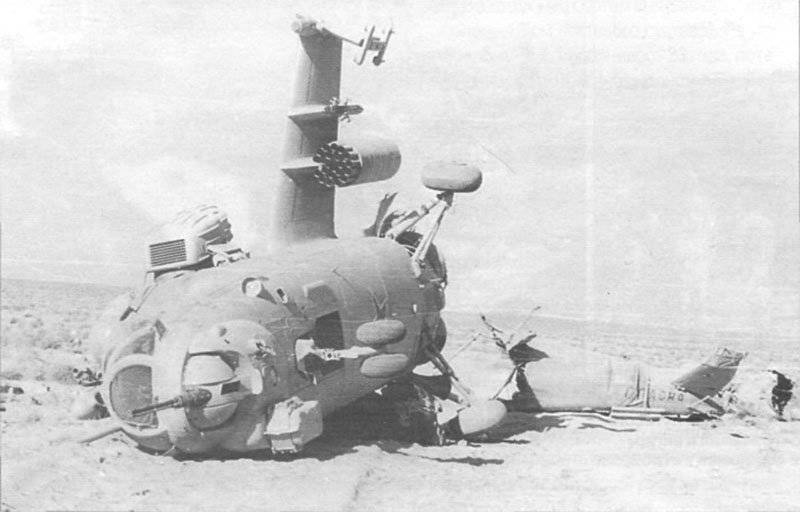 Разбитый при взлете в Фарахруде Ми-24В. Оператор В. Шагин погиб, командир Петухов получил тяжелые травмы. 205-я ОВЭ, 9 июня 1986 г Поскольку конструктивно обе створки десантного отсека посредством тяг распахивались вверх и вниз вместе («обеспечивая быструю и удобную посадку и высадку десантников», как говорилось в описании машины), опереть пулемет в дверном проеме оказывалось не на что и борттехникам приходилось проявлять смекалку и знание матчасти, рассоединяя привод раскрывания дверей, чтобы нижняя створка оставалась на месте. Позднее систему открывания дверей доработали, обеспечив штатную возможность открытия одной только верхней створки. В обычных полетах снятый с борта пулемет лежал в кабине. ПКТ с чувствительным электроспуском требовал осторожности — стоило задеть его, чтобы стрельба началась прямо в кабине. На «восьмерках», где пулемет все время оставался на стрелковой установке, «смотря» наружу, подобных проблем не было, но на Ми-24 такие происшествия иной раз происходили. В одном таком случае в 280-м ОВП борттехник из экипажа майора А. Волкова, перебрасывая пулемет с борта на борт, всадил в потолок кабины шесть пуль. В другом случае при сходных обстоятельствах ушедшими вверх пулями оказался простреленным двигатель вертолета. 8 сентября 1982 г. борттехник, снимая пулемет, «вследствие нарушения мер безопасности при обращении с оружием открыл непреднамеренную стрельбу в сторону кабины летника, произведя 15-20 выстрелов, в результате чего были перебиты более 500 проводов систем вооружения, оборудования и РЭО, повреждены агрегаты управления вертолетом и электросистемы». 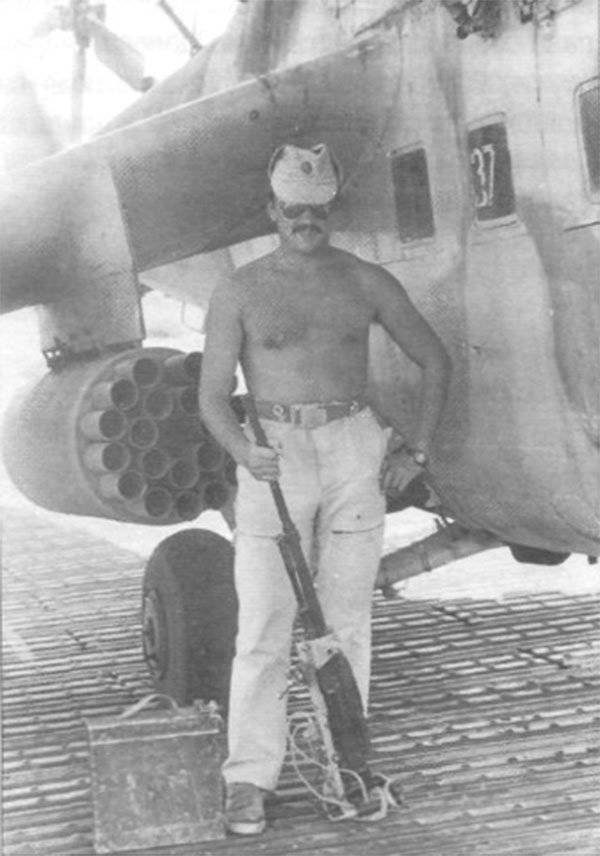 Для защиты вертолета с боковых ракурсов использовали надежный пулемет ПКТ. На фото — пулемет на установочной раме 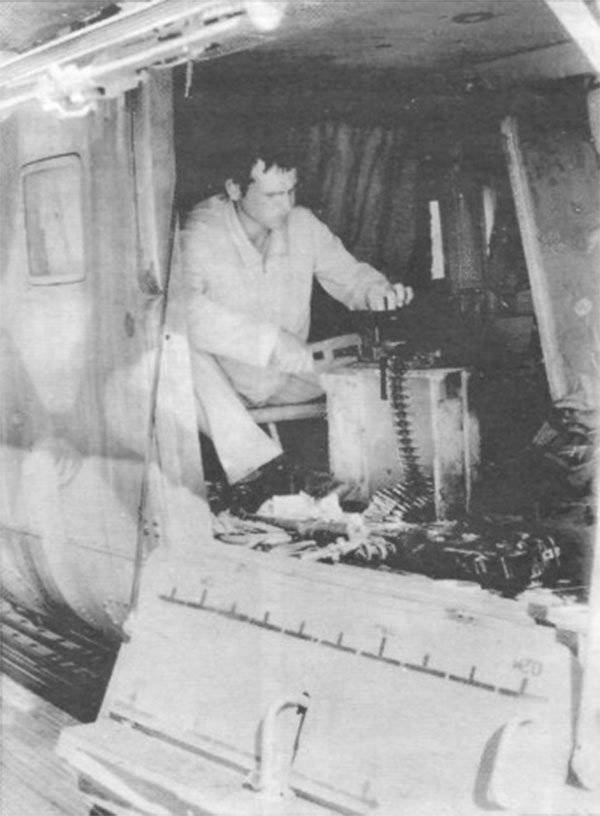 Борттехник Ми-24 занимается набивкой патронных лент к ПКТ. Сам пулемет лежит рядом на пороге кабины. Газни, 335-й ОБВП, осень 1985 г В общей статистике потерь Ми-24 более чем половина происшествий имела катастрофические последствия (с гибелью летчиков), насчитывая 52,5% от общего числа, при этом почти две трети таких случаев (60,4% от количества катастроф) сопровождались гибелью всех находившихся на борту членов экипажа. С целью предотвращения потерь летного состава в конце января 1986 г. было предписано выполнять полеты на Ми-24 ограниченным до двух человек экипажем из летчика и оператора, оставляя борттехника на земле, благо и без него летчики справлялись с обязанностями. В отношении эффективности его работы в качестве стрелка единства не наблюдалось: где-то считали такое прикрытие необходимым, а иные, особенно с появлением ПЗРК, полагали его блажью и без обиняков звали бортового техника «заложником». Доля правды в этом была. Возможности по прикрытию своей машины у «бортача» действительно были довольно ограниченными: огонь он мог вести лишь в боковых направлениях, по траверзам пролета вертолета, тогда как наиболее уязвимая задняя полусфера оставалась незащищенной. В то же время в аварийной ситуации при поражении машины шансов на спасение у борттехника оказывалось куда меньше, чем у летчика и оператора, рабочие места которых были много лучше приспособлены к аварийному покиданию вертолета и имелась возможность «выходить» за борт прямо с сидений. Борттехнику при этом нужно было выбраться со своего места в узком проходе за командирским сиденьем, в падающей неуправляемой машине добраться до створок десантного отсека и открыть их, постаравшись при прыжке с парашютом не зацепить торчащие в опасной близости под крылом пилоны и блоки подвесок. В итоге неединичными были случаи, когда летчику и оператору удавалось спастись, а борттехник погибал, оставаясь в падающей машине (в 50-м ОСАП в конце 1984 г. в таких ситуациях в сбитых Ми-24 за одну только неделю погибли двое борттехников, притом что остальные члены экипажей остались живы). В общей статистике потерь гибель этой категории летного состава в экипажах Ми-24 случалась чаще, чем летчиков и операторов. В конце концов подобные случаи возымели свое действие, и приказ о сокращении экипажей представлялся вполне обоснованным. Впрочем, соблюдался он не везде, и нередко борттехники по-прежнему летали в составе экипажей. На Ми-24 пограничной авиации, имевшие другую подчиненность, такое распоряжение, по всей видимости, и вовсе не распространялось, и их экипажи продолжали подниматься в воздух в полном составе, часто еще и с дополнительны» стрелком на борту.  Борттехник Г. Кычаков за пулеметом ПКТ, установленным на нижней створке десантного отсека Ми-24  Капитан Н. Гуртовой в десантной кабине Ми-24В, оборудованной поворотным сиденьем со сбитой «восьмерки». Кундуз, 181-й ОБВП, весна 1986 г Свой вариант довооружения вертолета предложило и КБ Миля. В 1985 г. вместо импровизированных стрелковых установок для защиты Ми-24 разработали кормовую огневую точку, опробовав ее на Ми-24В (заводской номер 353242111640). На вертолете установили крупнокалиберный пулемет НСВТ-12,7 «Утес», позволявший на равных вести борьбу с душманскими ДШК. Стрелковую установку оборудовали в корме под хвостовой балкой: сзади она была открыта, а по бокам имела обильное остекление для обзора задней полусферы. Поскольку задняя часть фюзеляжа вертолета была занята нижним топливным баком и стойками с аппаратурой радиоотсека, мешавшими доступу к рабочему месту стрелка, к установке соорудили подобие тоннеля из грузовой кабины, а под ноги стрелка пристроили свисающие вниз «штаны» из прорезиненной ткани. Заняв место, тот оказывался скрюченным в тесноте под нависавшими блоками и коробками аппаратуры, тросами управления и вращавшимся над головой валом рулевого винта. Сооружение получилось весьма громоздким и неудобным, к тому же неудовлетворительным оказался обзор и сектора обстрела. При показе начальству некий полковник из штабных пожелал лично опробовать новинку. Кабинетная комплекция подвела начальника — при попытке пробраться к пулемету он намертво застрял в узком проходе и его пришлось извлекать оттуда задом наперед. Помимо компоновочных недостатков, оборудование «огневой позиции» в корме неблагоприятно сказалось на центровке вертолета с вытекающими отсюда последствиями для маневренности и управляемости. Даже после доработки установки с обеспечением доступа снаружи из-за очевидных недостатков ее признали негодной к эксплуатации. В строю отсутствие защиты сзади несколько компенсировали проведением доработки с установкой зеркал заднего обзора у летчика, по типу апробированных на Ми-8, но смонтированных внутри кабины с учетом больших полетных скоростей. *** Рассказ о вооружении и работе вертолетной авиации в афганской войне был бы неполным без упоминания об участии в кампании винтокрылых машин Камова, оставшемся практически неизвестной страницей тогдашних событий. Речь шла отнюдь не об испытаниях в боевой обстановке новой техники, какой являлся отрабатывавшийся в это самое время Ка-50: только что поднявшаяся в небо машина необычной схемы и концепции находилась тогда в «детском» возрасте и у нее хватало проблем с доводкой, не позволявших предпринимать рискованных попыток пустить ее в бой. Тем не менее в Афганистане время от времени появлялись вертолеты Ка-27 и Ка-29, уже находившиеся на вооружении. Помимо флота, камовские вертолеты служили в пограничной авиации, будучи востребованными в округах погранвойск в горных районах, где выгодными оказывались их высокая энерговооруженность, отличные несущие способности, высотность и скороподъемность, а также устойчивость к влиянию обычного в горах ветра, попутного и бокового. Особенностям работы в стесненных горных условиях не в последнюю очередь подходила и компактность машин соосной схемы (камовские вертолеты имели несущий винт 16-метрового диаметра — на треть меньше, чем винт Ми-8). Камовские вертолеты имелись в авиации Закавказского пограничного округа, в частности, в 12-м отдельном полку, подразделения которого размещались в Грузии и Азербайджане. Первая эскадрилья полка на аэродроме Алексеевка под Тбилиси располагала несколькими Ка-27, во второй эскадрилье, находившейся в Кобулети, числились два Ка-27 и два Ка-29. Экипажи полка постоянно привлекались к работе по Афганистану в командировках продолжительностью 45 суток, поддерживая и подменяя коллег-пограничников из Среднеазиатского и Восточного округов. В этих заданиях участвовали и камовские вертолеты, время от времени работавшие в приграничных районах (по рассказам, случалось им появляться и в Шинданде), однако автор не располагает достоверными сведениями об их участии в боевых действиях. Этим не ограничивается история совершенствования вооружения в ходе «вертолетной войны» в Афганистане. Помимо появления новых типов и систем оружия, изменения претерпевало прицельное оборудование, доработкам подвергались узлы и агрегаты, повышалась их безотказность и эффективность, «отлавливались» дефекты, и эти кропотливые работы, направленные на поддержание должного уровня машин, сопровождали ее все время эксплуатации. 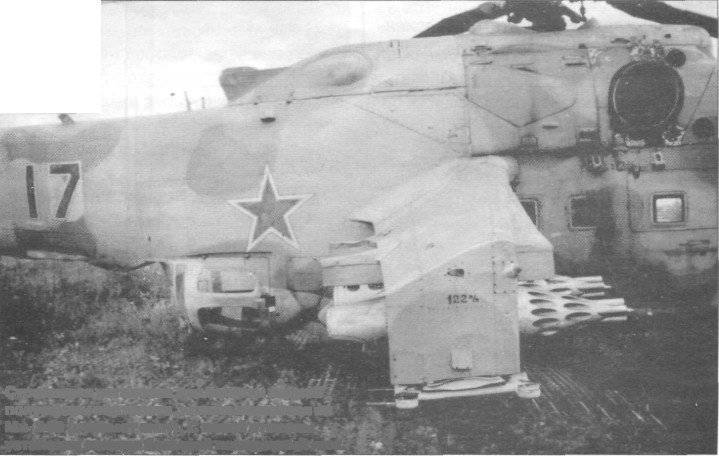  Стрелковая установка для защиты задней полусферы вертолета, испытывавшаяся на Ми-24В (пулемет снят). С левой стороны установки имелся большой посадочный люк Автор Виктор Марковский
|
|
|
|
|
#12 |
|
|
МиГ-21 в Афганистане
Среди самолетов, переброшенных в Афганистан при вводе советских войск, большую часть составляли истребители. По численности к началу января 1980 года они уступали лишь вертолетам — "воздушным рабочим" армейской авиации. Появление истребителей в авиации 40-й армии было вызвано опасением контрмер со стороны Запада. Не исключалось и втягивание в войну соседних с Афганистаном мусульманских государств, которые могли бы придти на помощь "братьям по вере".  С учетом этих прогнозов и строилась операция по "оказанию помощи народу Афганистана в борьбе против внешней агрессии". Для прикрытия с воздуха в состав 40-й армии включили зенитно-ракетную бригаду, а на аэродромы ДРА перелетели вначале по одной эскадрилье МиГ-21 из состава истребительной и истребительно-бомбардировочной авиации. Истребители принадлежали 115-му гв. иап, базировавшемуся на туркменском аэродроме Кокайты, которым командовал подполковник П.И. Николаев. Их коллеги истребители-бомбардировщики были из 136-го апиб из Чирчика в Узбекистане. Руководство на уровне армии осуществлял полковник В.П. Шпак, заместитель командующего авиацией 40-й армии по фронтовой авиации. Управиться предполагалось сравнительно небольшими силами, ограничившись привлечением местных авиационных частей из состава сил, имевшихся в Туркестанском и Среднеазиатском военных округах (ТуркВО и САВО), а потому переброску осуществляли с близлежащих аэродромов (Кокайты, что называется, лежал прямо за горой, всего в полусотне километров от границы). Во что выльется операция, тогда еще не представляли и рассчитывали обойтись силами ближних частей. То же относилось и ко всей 40-й армии, комплектовавшейся на базе кадрированных частей южных округов, за исключением приданных ей десантных частей из состава ВДВ. Но на всякий случай в повышенную боевую готовность были приведены и другие части ВВС и ПВО, вплоть до самых отдаленных военных округов. Первое время привлеченную авиацию сосредоточили в составе 34-го смешанного авиакорпуса, сформированного из частей ТуркВО и приданного направлявшейся в Афганистан группировке советских войск. При вводе войск в Афганистан нападение могло ожидаться в первую очередь с южного направления, откуда могли бы прорваться самолеты с авианосцев американского 7-го флота, и со стороны пакистанской стороны, располагавшей к этому времени более чем 200 боевыми самолетами. Граница с Ираном, охваченным антишахской революцией и занятым собственными проблемами, считалась относительно безопасной. Без сомнения, военное руководство при планировании мероприятий достаточно трезво оценивало ситуацию и не питало иллюзий относительно убедительности подобных пропагандистских "страшилок" — позднее начальник Генштаба Н.В. Огарков отзывался об этих доводах политиков как о "выдумке неправдоподобной и не очень умной". Американцам, едва оправившимся от изнурительной вьетнамской войны, тогда и в кошмарном сне не могло привидеться ввязывание в новую авантюру, а соседи Афганистана вовсе не стремились идти на открытый конфликт с могущественным советским государством. По крайней мере, при планировании Генштабом операции по вводу войск серьезное противодействие третьих сил считалось крайне маловероятным и в расчет, по существу, не принималось. Вот почему всю истребительную группу на начальном этапе сочли возможным ограничить одной эскадрильей. Между тем, будь угроза агрессии извне реальной, что ставило бы под угрозу и прилегающую советскую территорию, для надежного прикрытия воздушного пространства Афганистана располагаемой дюжины истребителей явно бы не хватило. Для отражения вражеских воздушных орд на афганском направлении, по всем прикидкам, требовалось задействовать, по меньшей мере, шесть истребительных авиаполков. Тем не менее, подобное мероприятие не планировалось к реализации ни при вводе войск, ни в разгар афганской кампании, и истребительные силы в составе авиации 40-й армии были доведены лишь до штатного полка, да и то со временем. Вскоре, в связи с проводившейся с начала 1980 года реформой ВВС и ПВО, в соответствии с которой прежние структуры заменялись ВВС округов, подчинявшихся общевойсковому командованию, 34-й САК был преобразован в ВВС 40-й армии. Тем самым 40-я армия стала единственной в составе советских Вооруженных Сил, имевшей собственную авиацию. Решение оказалось вполне оправданным и подтвердило свою эффективность (в отличие от задуманной сходным образом передачи военной авиации в подчинение округов в Союзе, ставшей неудачным опытом и впоследствии отмененной).  МиГ-21бис из состава 115-го иап. Одна из эскадрилий полка с военного времени носила почетное наименование «Советская Литва» 115-й гвардейский Оршанский орденов Кутузова и Александра Невского истребительный авиаполк являлся одной из наиболее титулованных авиационных частей советской авиации. Будучи сформированным накануне Великой Отечественной войны под Одессой, полк с честью прошел войну от первого до последнего дня, участвовал в боях в Белоруссии и Прибалтике, завершив боевой путь в мае 1945 года в Чехословакии. В память о боевых заслугах одна из эскадрилий полка несла почетное наименование "Москва", другая именовалась "Советская Литва". Однако привлечение полка к участию в афганской кампании диктовалось отнюдь не прежними боевыми заслугами. Просто выбирать было, по сути, не из чего — 115-й иап на то время был единственным истребительным авиаполком фронтовой авиации во всем ТуркВО. Прочие силы здесь были представлены перехватчиками войск ПВО, однако их привлечение в состав авиагруппировки не предусматривалось. При планировании переброски авиации встала задача рационального распределения имевшихся сил. Аэродромов, пригодных для базирования современных боевых самолетов, было всего четыре — Кабул, Баграм, Шинданд и Кандагар. Они располагались на высоте 1500-2500 м над уровнем моря. Одобрения на них заслуживали разве что отличного качества ВПП, особенно «бетонки» Кандагара и Баграма, уложенные еще американцами (друживший с СССР король Захир-Шах обустройство баз доверил все же западным специалистам). Перебазирование истребителей 115-го иап предприняли практически одновременно с началом ввода войск и начавшейся высадкой десантников в Кабуле и Баграме. Как только к середине дня 27 декабря 1979 года аэродромы были взяты под контроль, в Баграм перелетела 1-я эскадрилья авиаполка. В составе эскадрильи имелись 12 боевых МиГ-21 бис и две "спарки" МиГ-21УМ. Десантники, занявшие Баграм еще до захвата столичных объектов, все сохранили в целости. Операция по захвату аэродромов была подготовлена с особой тщательностью: десантники прекрасно ориентировались ночью на авиабазе и быстро овладели всеми узловыми сооружениями; на имевшихся у них планах была указаны даже расстановка мебели в помещениях и направления, в которых открывались входные двери. Инженерно-технический состав, группу управления и необходимые средства обслуживания доставили самолетами военно-транспортной авиации, полковая автомобильная техника прибыла спустя несколько дней своим ходом. Штаб авиации 40-й армии перебрался на новое место службы уже после Нового года, прибыв в Кабул 9 января. Первым командующим авиации 40-й армии был назначен генерал-лейтенант Мартынюк, со 2 февраля 1980 года смененный генерал-майором Б. Лепаевым. Заместителем командующего ВВС 40-й армии по инженерно-технической службе стал полковник Г.В. Якунин, в инженерном отделе у которого ведущим специалистом по МиГ-21 являлся майор В.П. Шилин, сам летавший на "двадцать первых". Весьма быстро обнаружилось, что силами одной истребительной эскадрильи не обойтись. Под День Советской Армии 23 февраля 1980 года в Баграм перебазировали и 2-ю эскадрилью 115-го полка. Находившуюся здесь 1-ю эскадрилью с конца марта перевели на столичный аэродром Кабула, однако впоследствии вновь вернули в Баграм, оставив в Кабуле одно звено для осуществления ПВО столицы. Кроме истребителей, на аэродроме разместили разведывательную эскадрилью МиГ-21Р и вертолеты, развернули полевой командный пункт и узел связи. Для усиления южного направления истребители 2-й эскадрильи с мая 1980 года разместили на аэродроме Кандагар, расположенном на краю Регистанской пустыни. Задачей истребителей, базировавшихся в Баграме, назначалось прикрытие центральных и восточных районов. Баграм представлял мощную военно-воздушную базу в 50 км на севере от Кабула, внушительно выглядевшую и по отечественным меркам и наилучшим образом подходившую для базирования истребительной авиации. Построенный еще при короле Захир-Шахе аэродром служил основной базой и учебным центром афганских ВВС: на нем находились полки МиГ-21 и Су-7БМК, сыгравшие немалую роль в дни апрельской революции 1978 года. Первоклассная цельнолитая бетонная ВПП Баграма имела длину 3300 м, а ее ширина позволяла истребителям взлетать сразу звеном. Правда, навигационные системы, средства связи и даже светотехника были далеко не новыми, изношенными и мало отвечали условиям работы современной авиации. На стоянках были построены мощнейшие укрытия для самолетов - настоящие крепости из валунов и камней, залитых бетоном, оборудованные убежищами, связью и всеми необходимыми коммуникациями. Накрыть стоящие в них самолеты можно было только прямым попаданием. Аэродром имел ремонтную базу, мастерские, склады и хранилища для горючего. Его радиотехническое оборудование и средства руководства полетами, как все в афганской армии, были советского происхождения и полностью подходили для новых "постояльцев". Полностью отечественной была и служившая у афганцев авиатехника, что позволяло рассчитывать на обеспечение ремонта и обслуживания (у афганских коллег при надобности можно было позаимствовать запчасти и комплектующие для обеспечения эксплуатации техники). Близость Баграма к границе СССР упрощала снабжение - авиабаза с многочисленным гарнизоном находились при трассе, связывавшей Афганистан с Советским Союзом и опоясывавшей всю страну. 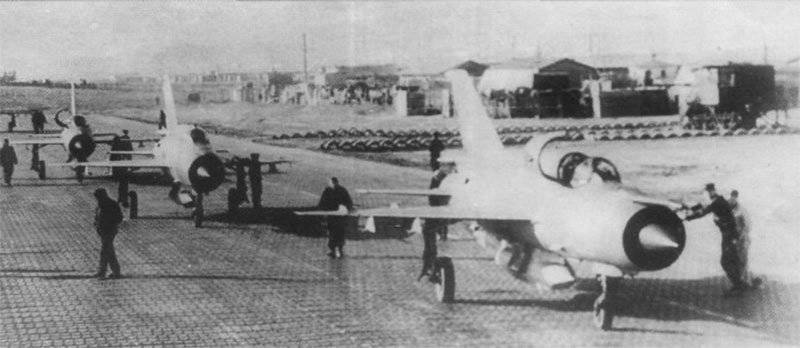 В составе первой группы авиации в Афганистан прибыли разведчики МиГ-21Р После худо-бедно обжитого гарнизона в Союзе первые впечатления от нового места службы были не радостными. Капитан В. Шевелев, прибывший в Баграм в числе первых, писал: "При перелете выдали оружие, насчет остального сказали - разберетесь на месте. По прибытии вылезли из самолетов, первые впечатления: неправдоподобно близко горы, вокруг степь, и снова горы со всех сторон - каменный мешок. На вершинах белый яркий снег, в солнечную погоду даже глаза режет. Почему-то подумалось: красиво, как на открытках. На рулежке стоит Ми-24 с пулей ДШК в лобовом стекле летчика. Ничего себе. Все ходят с автоматами. Рядом грузили в самолет погибших. Настроения это не прибавило — здесь, оказывается, и убивают. Жить пришлось в мазанке на задворках аэродрома, мест для всех прибывших не хватало. С потолка течет, из щелей в окнах, забитых фанерой, свищет ветер. Буржуйка греет, пока ее раздувают, чуть потухла - снова холодно. Ночью то и дело стрельба, все просыпаются, выскакивают, палят по огонькам наугад. Когда перебрались в Кабул, лучше не стало - жили в палатках, холод, сырость и грязь повсюду. Бочку с водой для столовой и помывки таскал танк. Из кормежки -только каша, сушеная картошка и мороженый минтай. Комбат объявил, что положен дополнительный паек, но его все равно нет, может, потом подвезут. Как потеплело, стала досаждать какая-то кусачая мошка, прозвали ее кукарача. От ее укусов пробирает лихорадка, дня три всего ломает, трясет, температура под сорок, потом еще с неделю жуткая слабость. Особенно холодно и промозгло ночью, чувствуется, что горы близко. Зима сырая, часто снег идет целыми шапками, счищаем его с одной плоскости, пока справился с другой - на почищенной снова столько же. Афганские военные в снег не работают, сидят дома в тепле и греются чаем. Только когда снег перестает идти, выходят на стоянку, считая, что как потеплеет, с самолетов сугроб сам сойдет. Под вечер всегда поднимается очень сильный боковой ветер, летать опасно, дует с дикой скоростью, даже кожу сечет песком и камнями". Первую зиму большинству авиаторов пришлось провести в палатках и оборудованных на скорую руку землянках (как формулировалось в служебных бумагах: "с использованием табельных средств палаточного типа, а также передвижных вагон-домиков"). Даже инженерному отделу штаба ВВС 40-й армии не нашлось места лучше, чем глинобитное строение без крыши и окон. Отведенная хибара служила и общежитием, и местом отдыха. Спасаясь от снега и ледяного дождя, сверху пришлось натянуть чехол от МиГ-21. Спали на разбитых раскладушках, укрываясь шинелями, за печкой-буржуйкой следил специально назначавшийся дежурный офицер. Шинели две недели подряд вообще не снимали, стирать одежду все равно было негде. Для обеспечения техники и быта не хватало электроэнергии, энергоснабжение осуществлялось передвижными дизель-генераторами, воду подвозили из местных источников и вновь пробуренных скважин. Обустраиваясь, гарнизоны оборудовали стационарными дизель-электростанциями с централизованной системой электроснабжения, строили котельные, водопроводы и очистные сооружения. На месте палаток появлялись целые городки с жилыми и служебными зонами. При этом, как говорилось в тех же документах, "большой объем работ по строительству объектов служебно-технической застройки и казарменно-жилых городков выполняется силами частей, дислоцирующихся на аэродромах". Со временем появились домики-модули, служебные помещения и сборные ангары для техники Известные афганские домики-модули официальным образом именовались "штатными сборно-разборными конструкциями "Модуль" типа К-120", материалом для которых служили деревянные и фанерные панели на металлическом каркасе с уже протянутой электропроводкой и прочими бытовыми удобствами. Для размещения штабов, учебных баз и прочих служебных объектов предназначались сооружения типа СРМ и другие конструкции. На постройку такого сооружения требовалось от двух до четырех месяцев (с оговоркой насчет "своевременной подачи строительных материалов и конструкций", — все необходимое требовалось везти за тысячи километров из Союза, и это при том, что первоочередной задачей транспортников являлось обеспечение действий армии топливом, боеприпасами и прочим, а бытовыми проблемами занимались по возможности). Выходом становилось самостоятельное обустройство с использованием единственно доступного материала - брусьев от бомботары и досок от патронных и снарядных ящиков. Со временем в гарнизонах выросли целые кварталы самостроя из выкрашенных в цвет хаки досок. Через несколько лет эти временные постройки так разрослись, что прилетавшие на смену полки встречали целые поселки бомботарных домов, среди которых были даже бани с саунами.  Первые истребители 40-й армии — группа летчиков 115-го гв. иап, прибывшая в Афганистан под Новый 1980 год. Шестой слева среди стоящих — командир 1-ой эскадрильи майор В. Федченко Истребительная группировка авиации 40-й армии на первом этапе была представлена самолетами МиГ-21бис — последней модификации заслуженного "двадцать первого", к этому времени все еще находившейся в производстве. Ко времени начала афганской кампании МиГ-21 отнюдь не являлся последним словом техники, однако во фронтовой авиации южных округов тогда более современных машин просто не было. С начала 70-х годов шло перевооружение истребительной авиации новыми самолетами МиГ-23, однако те в первую очередь направлялись в части "первой линии" на западном направлении и в дальневосточные истребительные полки на крайне неспокойной тогда границе с Китаем. Оснащение новой техникой авиации "тыловых" южных округов в предыдущие годы шло по остаточному принципу. В 115-м иап имелись самолеты МиГ-21бис заводского типа 75 двух исполнений: 1-я эскадрилья летала на машинах обычной комплектации, а во 2-й имелись самолеты с дополнительно установленным комплектом радиосистемы ближней навигации РСБН в составе посадочной навигационной аппаратуры, взаимодействующей с наземными азимутально-дальномерными радиомаяками и курсоглиссадными радиомаяками. Использование современного оборудования существенно повышало точность навигации, упрощая самолетовождение в осложненных условиях Афганистана и делая возможным круглосуточное выполнение снижения и захода на посадку даже при ограниченной видимости по приборам. Заход инструментальным способом допускался до высоты 50 м в любое время суток и в любых метеоусловиях. Тем самым далеко уже не новый "двадцать первый" предоставлял летчику возможности, которых не имели даже некоторые более современные самолеты. Впрочем, первое время часть оборудования МиГа не позволяло использовать отсутствие на афганских аэродромах необходимых систем - афганцам при их далеко не новой технике подобные станции были просто-напросто не нужны. Техническое обслуживание "биса" значительно упрощало внедрение системы автоматизированного контроля самолета и двигателя. Однако все познается в сравнении. Эта старая истина наглядным образом иллюстрировалась присутствующими по соседству чирчикскими МиГ-21ПФМ. Будучи в истребительной авиации далеко не самым современным самолетом, МиГ-21бис представляли собой куда более совершенные машины, чем выступавшие в роли истребителей-бомбардировщиков МиГ-21ПФМ. Эти самолеты имели возраст, переваливший за пятнадцать лет, утратив ценность в качестве истребителя, из-за чего были переведены в ударную авиацию. Но эти самолеты даже при своем сроке эксплуатации все еще годились к службе и командование сочло, что списывать их можно и не торопиться: бомбить и стрелять по наземным целям они вполне годятся. "Бисовскую" модификацию с послужившими МиГ-21ПФМ разделяли более десяти лет, что наглядным образом проявлялось при сопоставлении этих похожих только с виду "близнецов". МиГ-21бис оснащался новым двигателем Р25-300, выдававшим на три с половиной тонны большую максимальную тягу, имел более вместительные баки и качественно иное оборудование. Тем самым, повышенная тяговооруженность и запас топлива существенно повысили его несущие и взлетно-посадочные качества, однако более тяжелый "бис" стал проигрывать в маневренности. Тем не менее, Миг-21бис превосходил все прочие модификации "двадцать первых" по характеристикам разгона, взлетным характеристикам и скороподъемности. Разбег при взлете на форсаже занимал всего 830 м против 950 м у предшественника (при разреженном воздухе высокорасположенных афганских аэродромов требуемая дистанция возрастала, однако длины здешних ВПП с лихвой хватало для взлета даже с обычной боевой нагрузкой). Максимальная вертикальная скорость у земли достигала 235 м/сек, превосходя даже аналогичные качества МиГ-23, а высоту практического потолка 17800 м он набирал за 9 минут. Наиболее выигрышной в специфичной афганской обстановке, требовавшей действий в удаленных районах, выглядела увеличенная дальность: с одним подфюзеляжным подвесным баком МиГ-21бис на высоте имел дальность полета 1480 км при продолжительности полета до двух часов. Это оказывалось востребованным и с учетом местных особенностей самолетовождения с критичным недостатком наземных ориентиров и однообразием местности (горы и пустыни были, что называется, на одно лицо, и запас топлива никак не был лишним). Выгоду предоставляло также совершенное навигационное оснащение "биса", позволявшее уверенно чувствовать себя в удаленных районах, надежнее и точнее выходить к месту боевой работы и возвращаться на аэродром. МиГ-21бис существенно превосходил предшественника также по наиболее важному показателю для боевой машины, располагая большими возможностями по весу и арсеналу боевой нагрузки. У МиГ-21ПФ боевые возможности ограничивались подвеской всего двух бомб или блоков реактивных снарядов УБ-16-57. "Бис" оснащался встроенной пушкой ГШ-23Л и мог нести вооружение на четырех подкрыльевых держателях, благодаря высокой тяговооружености и усиленной конструкции имея возможность подвески полутора тонн бомб: двух "пятисоток" на внутренних узлах и двух по 250 кг на внешних. Набор вооружения дополняли новые типы средств поражения, включая многозамковые бомбодержатели, позволявшие разместить на подвеске до десяти бомб стокилограммового калибра, 32-зарядные блоки УБ-32 и другое современное оружие. Применение средств поражения обеспечивал новый автоматический прицел, позволявший вести огонь в том числе и с маневра при перегрузках (на МиГ-21ПФ обходились порядком послужившим коллиматорным прицельным устройством АСП-ПФ-21 "дедушкиного" образца). В итоге складывалась любопытная ситуация несколько неожиданного характера: относившийся к "чистым" истребителям МиГ-21бис выглядел куда более совершенным и мощным средством поражения наземных целей, нежели представлявший ударную истребительно-бомбардировочную авиацию МиГ-21ПФ. При этом атаки наземных целей, бомбометание и стрельба не были истребителям в диковинку: действовавший курс боевой подготовки истребительной авиации, отрабатывавшийся летчиками, включал соответствующие упражнения, и после необходимой тренировки они не уступали коллегам. Были у "биса" и свои недостатки: особенностью потяжелевшей машины являлась повышенная удельная нагрузка на крыло: при нормальном взлетном весе этот параметр достигал 380 кг/м2 против 330 кг/м2 у предшественника. Радиус виража МиГ-21бис у земли превышал один километр, что было в полтора раза больше, чем у Су-17 и МиГ-23. Это стало существенным неудобством при работе по наземным целям. Развороты с большим размахом затрудняли построение боевых маневров, а при повторных заходах грозили потерей цели, которую летчик при отходе на таких расстояниях терял из виду. 15% разница в удельной нагрузке проявлялась также ощущавшимися особенностями поведения на небольших скоростях и строгостью в управлении, требовавшем скоординированности, особенно при боевом маневрировании. Эти особенности самым непосредственным образом сказались при боевом применении самолета. Наличие автопилота, следившего за поведением самолета по крену и тангажу, выдерживавшего заданный курс высоту и демпфировавшего колебания самолета, не исключало необходимости внимания летчика за поведением машины. Выгодной являлась возможность использования режима приведения к горизонту, когда при потере пространственной ориентировки (к примеру, в облаках или ночью) включение автопилота позволяло вывести самолет в нормальное положение и в автомате" удерживать его. Автопилот также позволял задействовать режим увода с опасной высоты, особенно применимый в маловысотных полетах или при потере видимости земли. 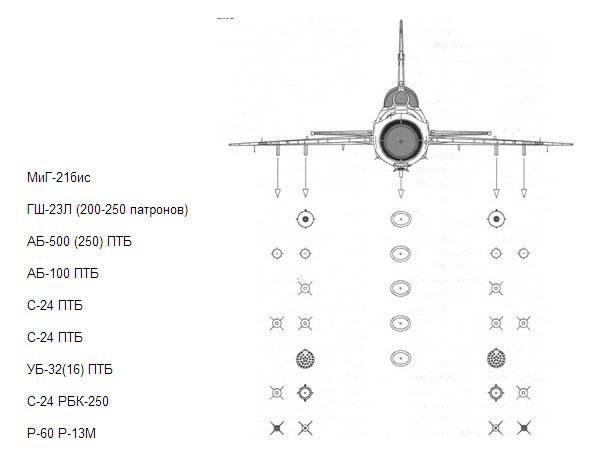 Типовые варианты вооружения МиГ-21бис 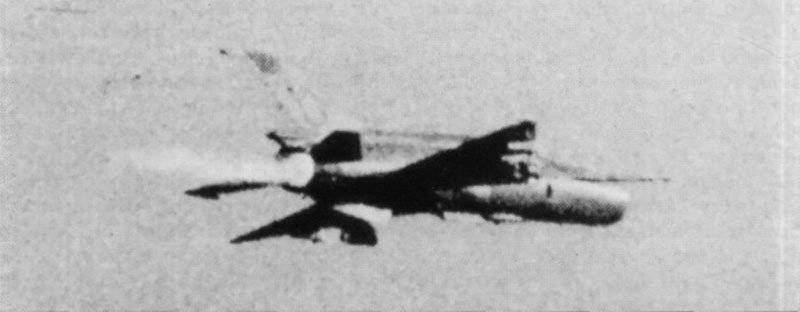 Разгон МиГ-21бис на форсаже над Баграмским аэродромом Для авиаторов 136-го апиб участие в афганских событиях началось еще при нахождении на своем аэродроме. Вскоре после апрельской революции 1978 года в Кабуле полк несколько раз поднимали по тревоге, на случай непредвиденного развития событий, перебазируя то в Кокайты к самой границе, то неделями держа в Мары по соседству с тамошними коллегами из 217-го апиб. Командир полка полковник Виктор Сикорский и сам оставался в неведении о планах командования (по крайней мере, о направлении в Афганистан речь не заходила). Тем не менее, приведение полка в повышенную боевую готовность и смена места базирования начали отрабатываться еще за две недели до начала событий. Очередная тревога была объявлена ранним утром 1 1 декабря. О дальнейших событиях вспоминал командир звена Вячеслав Таштамышев: "Уже наученные опытом, летчики особо не торопились. Я собрал чемодан, всю экипировку, позавтракал и неспешно отправился на аэродром. Транспорта все не было, сидели и ждали. Многие вообще не взяли с собой ничего необходимого, даже зубной щетки: мол, скоро опять распустят по домам. Потом стало известно, что тревога настоящая и что-то происходит. Наконец появился автобус, и мы поехали на аэродром. Там снова ждали команды, но задачу никто не ставил, пока не прибыл командир, объявивший, что предстоит всем полком лететь в Кокайты. Это не удивило (первый раз, что ли?) Тем, кто оставался без личных вещей, было строго указано с применением доходчивых выражений, что дело серьезное и велено бегом отправляться в городок за вещами. К перелету подготовка была самой простой: настроили радиокомпас, на картах карандашом прочертили маршрут - прямую линию, выставили со слов штурмана полка расстояние, курс и время, на том все навигационные расчеты и закончились. Никакого боекомплекта не подвешивали, даже ПТБ не брали, никто ведь не знал, что улетаем на войну. После перелета две недели жили на командировочном положении без какой-либо конкретности. Ни летной, ни теоретической подготовки к боевому применению не было, так, полетали немного для сохранения навыков. Все изменилось самым неожиданным образом 25 декабря: нам "нарезали" несколько зон боевого дежурства над Афганистаном, где предстояло работать в последующие дни. В это самое время войска пошли в Афганистан, пересекая пограничную Аму-Дарью. Одна зона находилась западнее Мазари-Шарифа рядом с дорогой, другая имела восточной границей Ташкурган, между ними шла дорога на Кабул. Еще одна зона простиралась севернее Ташкургана. Туда направлялись по одной паре самолетов с подфюзеляжными ПТБ-490 и парой блоков с С-5. Задачу ставили самым общим образом: "...Стоите в зоне, если с вами выйдет на связь авианаводчик, по его командам наносите удар туда-то и туда-то". Прежде таким образом мы не работали, и смутно представляли как это всё будет происходить. Ведь даже колонны войск, которые шли по дорогам, с воздуха из назначенных зон видно не было. Перед вылетами выступил приехавший пехотный начальник, рассказавший, что афганская ПВО еще неизвестно на чьей стороне и в районе Мазари-Шарифа у них есть зенитные ракеты, так что всё может случиться, а потому следует следить за возможными пусками ракет. Запугал этим, так что непонятно было, за чем следить — за вероятным противником или стрельбой зенитчиков. В одном из вылетов 26 декабря внизу с небольшого аэродромчика севернее Мазари-Шарифа взлетал чей-то самолетик. Газуя, он поднял тучу пыли — с виду точь-в-точь пуск ракеты. Мы с перепугу в паре с ведомым начали крутить противоракетные маневры, уворачиваясь от попадания. Вроде чепуха, а с непривычки страху натерпелись. Сам ввод войск выглядел тоже не как на параде. Не было стройных колонн молодцеватых воинов и чеканного шага. Понабирали через военкоматы из запаса резервистов по Туркмении, Узбекистану: тех, кто отслужил срочную, иногда им было уже за сорок лет. Мы их каждый день видели в городе, в шинелях из военных еще запасов, небритых, с вытертыми сидорами-вещмешками, ППШ и другим военным старьем. Насчет военной подготовки и речи не было. Они хлопок собирали, а их прямо с полей на войну. Машины шли вовсе без сопровождения бронетехники. Вот эти колонны мы и должны были прикрывать. Этим мы занимались до самого Нового года. Холодновато уже было, ведь прилетели в одних летных комбинезонах и кожаных куртках, что понадобится зимнее обмундирование, никто не позаботился предупредить. Какой-то специальной экипировки тоже не водилось. С собой - только несчастный пистолет Макарова, две обоймы в карманах и еще две - под сиденьем в НАЗе. На других самолетах его перебирали, приспосабливая под укладку автомата и порядочный запас патронов, но на МиГ-21 до этого так и не дошло. Позже стали выдавать пистолет Стечкина АПС, который может стрелять очередями, но он на ремне не умещался и вешать его приходилось на шлейке на шею. В полете он очень мешал, поэтому его чаще оставляли при вылете дома под подушкой. Давали еще две гранаты, только они карманы рвали в комбинезонах, и без того ветхих, и их тоже оставляли дома. Никакого камуфляжа тогда и в помине не было: летали кто в чем - в синих, песчаных или голубых комбинезонах. Тогда еще не знали, что при пожаре их ткань плавится и пригорает к коже (слава Богу, опыта не было). Такими вылетами в зоны и дежурством на аэродроме мы занимались до конца декабря и еще неделю после Нового года. Прикрывали себя, летали, но реального противника не было. Тренировок по боевому применению тоже не было, мы не стреляли и на полигон не летали. Вылеты в летной книжке записывали не как боевые, а проходящие по курсу боевой подготовки на класс. Потом по летной книжке и не установить было, какие полеты были над своей территорией, а какие — над ДРА. Приходилось догадываться: видимо, если записан полет на перехват, то это, наверное, чисто учебный, а если упражнения выполнялись парой или звеном, то наверняка - "за речку". Отцы-командиры и сами толком не относились к задаче, как к боевой. Раз войны вслух не объявляли, то следовало заниматься положенными задачами - плановой подготовкой и подтверждением квалификации летного состава. Так думали не только мы одни. Наверное, и те, кто принимал решение и отдавал команды: мол, все обойдется без стрельбы и войны тут не будет: войска войдут, припугнут недовольных, помогут новой правильной власти утвердиться, и дело будет сделано. Но вышло не так... 9 января прикрывали очередную колонну из Термеза на Файзабад. Шел мотострелковый полк, с грузовиками и техникой, с головы и хвоста прикрытые "броней". Колонна прошла Талукан и направлялись в сторону Кишима. Растянувшись, колонна образовала зазор в километр, где не было ни "брони", ни огневых средств. Туда и ударили мятежники. Они тогда уже умели воевать, хоть и выглядели диковато - на лошадях, с допотопными берданками. Потери в колонне были очень большими. На помощь вызвали авиацию. Из нашего чирчикского полка первыми подняли пару командира звена капитана Александра Мухина, находившегося в готовности № 1 у своего самолета. За ним вылетела группа руководства. Азарт был велик, всем хотелось повоевать, отметиться в деле. Возвратившись, командиры сразу меняли самолет, пересаживаясь в ожидавшие подготовленные истребители. Остальным приходилось довольствоваться тем, что сидели в кабинах в готовности, ожидая очереди. Летчики прилетали возбужденные, рассказывали прямо как в кино про Чапаева: стреляли НУРСами из блоков УБ-32 по толпе кавалерии и пеших душманов, практически на открытой местности. Нарубили они тогда порядочно. В начале января первую эскадрилью во главе с замкомандира полка подполковником В. П. Монаховым отправили усиливать ВВС 40-й армии, перебросив в Кандагар на юг Афганистана. Вторую вернули домой в Чирчик переучиваться на самолет поновее - МиГ-21СМ. А нашу третью оставили в Кокайтах, продолжать работу по северу Афганистана. Но оставаться там случилось недолго, меньше месяца. В аккурат в канун Дня Советской Армии 23 февраля готовились к празднованию. И только мы отправились на базар для закупок, как на рынке появляется "газик" командира и комэск Зузлов со страшными глазами командует: "Бегом в машину, летим в Баграм! ". Все удивились: "Командир, посмотри на небо - какой Баграм при такой погоде?". "Скорей, это боевой приказ, выполнять немедленно, иначе трибунал!". Едва успели забежать в комнату за туалетными принадлежностями, и по самолетам. Никто не верил, что полетим - погода была никакая, даже для обычных полетов. И все-таки услышали команду запускаться. Первой поднялась пара комэска Зузлова и замполита эскадрильи майора Сергея Фефелова, следом - замкомэска майор Александр Бобков и старший летчик капитан Иван Рыжков. У Бобкова произошел срыв запуска и вместо него ведущим пары пошел я. Вся эскадрилья улетела в Баграм, а приготовленный к празднику стол так и остался дома... Сразу после взлета вошли в облака, ведомые потеряли ведущих. Только раз в просвете увидели друг друга и снова воткнулись в сплошную пелену. На эшелоне пришлось не проще: там попали в сильное струйное течение - над горами это частое явление — "сдувало" ощутимо, да и должной слетанности в группе еще не было. К тому же на МиГ-21ПФМ навигация — на уровне детского конструктора, весь набор - это часы, компас и указатель скорости. Словом, увело нас от линии заданного пути здорово, километров так... на очень много. Оказались бы неведомо где, но выручил КП Баграма. Обнаружили нас, указали место. Доворачивать пришлось на 90° и добираться до выхода на маршрут еще десять минут. А над Баграмом светило солнце и стояла стопроцентная видимость, словно в награду за мытарства". К началу января 1980 года самолеты МиГ-21 составляли основу авиации 40-й армии: из имевшихся тогда в Афганистане 52 боевых самолетов насчитывалось 37 "двадцать первых": истребителей, истребителей-бомбардировщиков и разведчиков. Их доля в ВВС 40-й армии оставалась преобладающей и в течение всего первого года войны. Вторжение империалистов в Афганистан так и не состоялось, хотя пропаганда свое дело сделала: многие из оказавшихся в декабре 1979 года в ДРА искренне верили, что буквально на несколько часов опередили американцев и даже "слышали" гул их самолетов! Едва ли не единственным "истребительным" успехом первых месяцев стал перехват пакистанского самолета над Кабулом. Пакистанец шел без связи вне расписания и вызвал подозрения. На его перехват поднялась пара МиГ-21 бис и вынудила к посадке на столичном аэродроме. При разбирательстве оказалось, что речь идет о пассажирском DC-8 и нарушитель был отпущен восвояси. 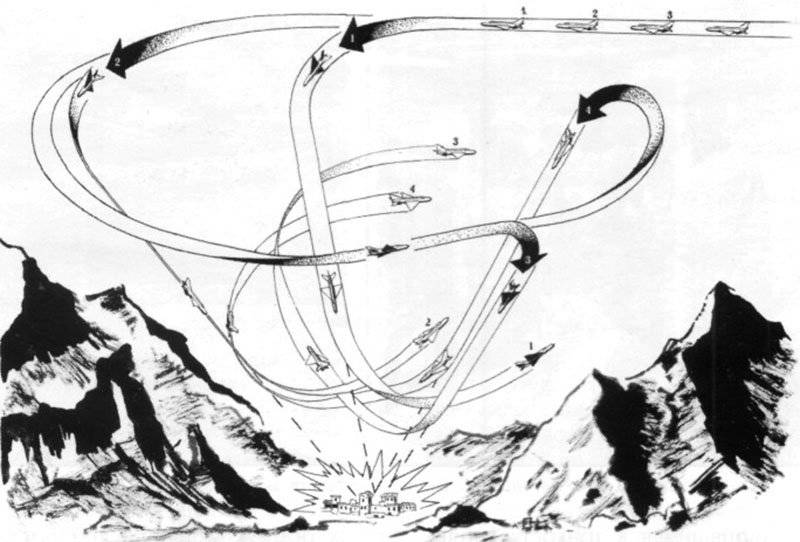 Противника в воздухе не было, но очень скоро истребителям нашлась другая работа. С началом проведения операций 40-й армии удары по наземным целям на долгое время стали основным занятием истребительной авиации. До весны 1980 года советское командование старалось не вести масштабных боевых действий. Предполагалось, "обозначив" свое присутствие в Афганистане и посадив там правительство Кармаля, вскоре вывести войска. Но "дружественный афганский народ" на поверку оказался не очень восприимчив к идеалам социализма, а неуклюжие попытки наладить "новую жизнь", зачастую противоречившую местным обычаям и законам шариата, лишь множили количество недовольных.  Летчики и самолеты 115-го гв. иап Жителям горных селений, слабо разбиравшимся в тонкостях политики (многие всерьез считали, что Советский Союз захватили китайцы, и поэтому "шурави" пришли на афганскую землю), было не привыкать бороться за свою свободу, а обращению с оружием у пуштунов учились с детства. Недовольные новой властью нашлись и в армии, предпочитая с оружием в руках примкнуть к мятежникам и бороться с кабульским правительством. Одним из наиболее крупных формирований была группировка известного впоследствии Турана Исмаила, служившего прежде в армии в чине капитана и возглавившего вооруженное сопротивление в восточных провинциях. Иной раз на сторону мятежников переходили целые части с вооружением, и не только стрелковым. Таким образом противник получал крупнокалиберные пулеметы, излюбленные моджахедами ДШК и ЗГУ, минометы и безоткатные орудия. Более мощное вооружение в горной войне было неудобным и, если даже в руки душманов попадала с трофеями бронетехника и пушки (к тому же требовавшие хотя бы минимальной обученности и обслуживания), их использовали мало и бросали, когда меняли место дислокации отряда. На юге у Газни действовала банда Мухаммеда Хасана, получившего военное образование в СССР и ранее служившего в офицерском чине в правительственной армии. Его отряды удерживали под контролем пять окрестных ущелий, располагая несколькими десятками ДШК и своей артиллерией. Необходимость в применении авиации возникла уже в начале января, буквально неделей спустя после прибытия МиГов в Кабул. Иных боевых машин в той части Афганистана тогда не было и истребителям приходилось выступать универсальным средством как для прикрытия воздушного пространства, так и при поддержке наземных войск и ведении разведки. В начале января произошел мятеж в 4-м артиллерийском полку афганской армии, расположенном в городе Нахрин на севере страны. При мятеже были убиты находившиеся при части советские военные советники. Заняв военный городок, мятежники окопались, соорудив завалы на дорогах и оборудовав на подходах артиллерийские позиции. По просьбе афганских властей для разоружения мятежного полка были привлечены советские части. Поскольку противник располагал реальными силами (имел артиллерию и поддерживался местными бандами), было принято решение выбить из его рук наиболее серьезные средства, для чего следовало нанести авиационный удар по местонахождению хранилищ вооружения и складов с боеприпасами. Сначала для нанесения удара планировали задействовать истребители-бомбардировщики с приграничных аэродромов в Союзе, но те не смогли отыскать цели среди заснеженных предгорий. Тогда для удара подняли звено МиГ-21 из 115-го полка из Баграма, выполнивших бомбометание. К непосредственной авиаподдержке истребители не привлекались. Выдвигавшиеся к Нахрину советские части сопровождали вертолеты, огнем с воздуха рассеявшие противника. Операция была проведена 9-10 января с минимальными потерями, составившими двоих убитых и двоих раненых. МиГ-21ПФМ из эскадрильи 136-го апиб задействовали буквально с ходу уже в день прибытия в Баграм. 22 февраля 1980 года звено капитана Томина привлекли для удара в районе Асмара на северо-востоке от Джелалабада. Целью являлась крепость у входа в Кунарское ущелье. На самолеты подвесили по паре бомб ФАБ-250 и подфюзеляжный бак (хотя цель находилась на удалении в полтораста километров, после перелета усвоили, что запас карман не тянет). Отбомбились не самым лучшим образом - летчики без обиняков признавались, что бомбометанию в горах надо еще учиться. Вылеты в Кунар стали преддверием готовившейся войсковой операции, где авиация применялась уже масштабно. Для ликвидации очагов сопротивления советским войскам в конце февраля был отдан приказ: совместно с частями афганской армии начать активные боевые действия, прежде всего вокруг столицы и в приграничных с Пакистаном районах. Первую крупную операцию провели в провинции Кунар в марте 1980 года. Задача заключалась в том, что усиленному полку предстояло пройти северо-восточнее Джелалабада вдоль афгано-пакистанской границы в направлении Асадабада, где находился правительственный гарнизон. К городу тянулась по ущелью реки Кунар единственная дорога, большей частью шедшая по горным карнизам. Дорогу оседлали отряды противника и всю зиму город находился в блокаде, снять которую, наладив снабжение, было основной целью операции. Одновременно предстояло нанести поражение формированиям оппозиции, вызывающе активным в этих местах. Продвижение советского мотострелкового полка к Асадабаду поддерживали истребители-бомбардировщики (чем и была вызвана спешность их переброски в Баграм). Специфика афганских условий сразу дала о себе знать: продвижение войск сопровождалось непрерывными обстрелами, а прилетавшие летчики не могли отыскать прячущиеся среди скал и нагромождений камней огневые точки - мешали большая скорость, да и время подлета (авиацию вызывали по радио) позволяло противнику сменить позиции. Пользоваться при этом приходилось устаревшими картами, не менявшимися с 50-х годов, где даже иные города и прочие населенные пункты назывались иначе. Летчикам, знавшим, что цели должны находиться где-то здесь , пришлось наносить удары по площадям, накрывая квадраты вдоль дороги. Несколько раз при этом от огня авиации доставалось своим войскам; к счастью, обходилось без жертв. Руководивший операцией командир 108-й мотострелковой дивизии полковник Б.В. Громов (впоследствии Б.В. Громов еще дважды получал назначение в Афганистан, став командующим 40-й армией) так описывал первые уроки применения авиации: "Авиация — мощная сила, но ею необходимо управлять. В каждой колонне находились авиационные наводчики, но они ничего не видели и не знали, откуда ведется огонь. Поэтому вначале нам приходилось наносить авиационные удары по площадям. Или отдавать все на откуп летчику — если он видел противника, то наносил по нему бомбоштурмовой удар. Иногда под огонь авиации попадали свои войска - из-за того, что с большой высоты трудно было разобрать, где находятся душманы, а где наши солдаты. Два таких случая произошли при мне, правда, обошлось без больших людских потерь - получалось, что в основном уничтожали только технику, а то и били мимо". Истребители-бомбардировщики 136-го апиб .регулярно привлекались к работе над Панджшером, служившим оплотом формированиям Ахмад Шаха. В конце февраля МиГ-21ПФМ вели разведку объектов противника в ущелье. Тут же звену капитана Таштамышева потребовалось подниматься для работы по вызову. Заказчиком выступал корректировщик артогня, находившийся на вершине скалы, однако выдача целеуказания самолетам для него была незнакомым делом (их команды "три десять влево, два дальше, целик пятнадцать" нам не понятны), из-за чего пришлось обратиться к помощи коллег из армейской авиации. Наведением на цель занялись вертолетчики, указавшие место на вершине склона как раз перед постом корректировщика. Командир звена рассказывал об атаке: "На вводе в пикирование распустили пару, каждый самостоятельно целился и пускал НУРСы. Они прошли мимо и улетели за склон. Тут же отдав от себя ручку, что само по себе было страшным нарушением (уточнять прицеливание увеличением угла пикирования непозволительно, из крутого снижения уже не выйдешь, за такое голову снимали, если до этого не убивался сам), успел еще раз пустить снаряды на выводе. Если бы не склон, высоты бы для вывода не хватило бы".  Афганский МиГ-21ПФМ на аэродроме Баграма Основными районами ведения разведки истребителей Баграма назначались зоны в Панджшере и по Кунарскому ущелью. При ведении разведки предписывалось после обнаружения вызывающих сомнение объектов сначала запросить наземный КП через самолет-ретранслятор и после проверки ими обстановки получить разрешение на применение оружия. Впоследствии подобные вылеты с самостоятельным обнаружением целей и их атакой получили наименование разведывательно-ударных действий (РУД). На первом этапе, однако, они не отличались эффективностью: поиск большей частью малоразмерных и неприметных целей с высоты и при скоростях полета истребителей в 900 - 1000 км/час был малорезультативным, да и распознать, кто находится в дувале или селении внизу, практически не было возможным. И без того из-за отсутствия надежных ориентиров случалось при вылетах к Кунару выскочить за пограничную черту. Иной раз подобное нарушение было осознанным, будучи вызванным построением маневра в приграничной полосе. Как-то в конце февраля при поиске служившей пристанищем противнику крепости у Асадабада цель отыскалась прямо на пограничной черте. На карте её положение выглядело вполне очевидным. Чтобы в повторном заходе получше её рассмотреть, пришлось разворотом зайти с обратного направления, пройдя над горами с пакистанской стороны. Опасений у летчиков такие маневры не вызывали — пакистанцы проявляли сдержанность и в мирном до недавних пор пространстве их истребители тогда еще не дежурили. В начале марта МиГ-21ПФМ чирчикской эскадрильи перелетели в Кабул. Их машины стали первыми боевыми самолетами в столичном аэропорту, где прочие авиационные силы были представлены несколькими вертолетами. Готовилось прибытие транспортной авиагруппы и нескольких десятков вертолетов в составе 50-го смешанного авиаполка (сап), однако знаменитый впоследствии "полтинник" тогда еще только формировался на советских аэродромах. В аэропорту Кабула стоянок для боевой техники не было и прибывшей эскадрилье пришлось занимать место прямо на магистральной рулежной дорожке, выстроившись "ёлочкой" вдоль бетонки, на виду у рулящих мимо пассажирских самолетов афганского "Бахтара" и соседних восточных авиакомпаний. Задачами назначались те же вылеты в сторону районов, граничащих с Пакистаном, но по большей части летали на разведку над самим Кабулом. Поводом стали волнения и антисоветские выступления в столице, когда обстрелу подверглось советское посольство. Противник открыто выказывал намерения, и для восстановления контроля над положением в Кабуле потребовалось привлекать не только войска, но и авиацию, выглядевшую самым внушительным доводом. МиГи, проносившиеся над городом, производили впечатление одним своим громом и демонстрацией мощи. Летали порой на малых и предельно малых высотах, где высотомер был бесполезен и следили лишь за тем, чтобы не нырнуть под провода ("что называется, ходили по головам"). Город для удобства ориентирования разбили на сектора, используя карты самых крупных масштабов. Задача ставилась следующим образом: стоявшую на боевом дежурстве пару поднимали, направляя в соответствующий сектор. Находясь над своим сектором, летчики наблюдали за обстановкой, докладывая о происходящем. Если внизу замечалась собиравшаяся толпа, докладывали на КП и принимались за "наведение порядка". Снизившись на предельно малую высоту, проходами над сборищем утюжили его. Мало кто из афганцев видел самолет вблизи, так что эффект достигался самый устрашающий: разлетались хворостяные крыши, взвивались в воздух полотнища навесов и валились хлипкие саманные стены. Выдержать сотрясающий гром и свист проносящихся самолетов было невозможно и публика внизу разбегалась после одного-двух проходов. Применения средств поражения не требовалось и обходились одним только "давлением на психику".  Взлет афганского истребителя из Баграма Подобные вылеты к боевым не причислялись, да и само понятие боевого вылета, толком не оговоренное наставлениями, трактовалось летчиками по-разному. Одни считали, что любой вылет с боекомплектом является боевым, независимо от того, имело место боевое применение или нет. Другие возражали, что таковым можно считать только то, в котором применялось оружие, стреляли или бомбили. Как при этом относиться к вылетам на разведку, однозначного мнения и вовсе не было. Поэтому "отметиться" со стрельбой старались все, подтверждая звание военного летчика. К тому же прошел слух, что за 20 боевых вылетов (пусть даже неясно какого назначения) обещано представление к ордену. Боевых наград в полку никто не имел, так что перспектива звучала крайне заманчиво. Кое-кто и вовсе в полете при всяком удобном случае докладывал: "Вижу цель, разрешите атаковать". По возвращении никто особо не допытывался - что за противник встретился и каковы результаты, записывая боевое применение. За все это время боевых повреждений на МиГ-21ПФМ не было. Участие МиГ-21ПФМ в афганской кампании оказалось недолгим. Самолет, находившийся на вооружении еще с 1963 года, к началу 80-х морально устарел и должен был уступить место более современной технике. 13 марта 1980 года эскадрилья 136-го апиб была отозвана из Афганистана, возвратившись к месту базирования части в Чирчик. Дома летчиков и техников ожидало переучивание на новый для них МиГ-21СМ. Самолет представлял собой предшественника "биса". Он был представителем предыдущего поколения — доставшиеся полку машины были выпущены лет десять назад и успели послужить в других полках, сменивших их на вновь поступавшие МиГ-23. В качестве истребителя-бомбардировщика МиГ-21СМ из-за меньшего запаса топлива несколько уступал "бису"по дальности, однако был легче, имел те же четыре точки подвески и сходный ассортимент вооружения. Переучивание на сходный тип заняло буквально несколько недель, а с января находившиеся на базе летчики двух других эскадрилий к этому времени успели освоить МиГ-21СМ и были привлечены к формированию вновь отправляемой в Афганистан группы. В апреле-мае в состав ВВС 40-й армии были направлены уже две эскадрильи 136-го апиб, а в сентябре вслед за ними отправили остававшуюся третью эскадрилью. Одну из эскадрилий 136-го апиб перебросили на аэродром Шинданда - крохотного городка в пустыне у иранской границы, где располагался крупный аэродром с полосой длиной 2940 м, ставший опорным пунктом советских войск в этих местах. Шинданд стал главным местом базирования истребительно-бомбардировочной авиации — МиГ-21СМ чирчикского полка подменяли переброшенные еще при вводе войск Су-17. Другую эскадрилью 136-го апиб разместили в Кандагаре. Шинданд, Баграм, а также Кандагар и в дальнейшем оставались базовыми аэродромами, между которыми при необходимости производилась переброска самолетов для сосредоточения мощных ударных групп, служа своего рода "сухопутными авианосцами", возле которых концентрировались и другие части. Северные провинции ДРА Балх, Джузджан и Фариаб, в основном, "обслуживали" МиГ-21 с аэродрома Кокайты, летчики которого называли местные банды "своими подшефными". Пребывание МиГ-21СМ в составе ВВС 40-й армии также не затянулось. Эти машины служили в 136-м полку чуть больше года, а воевали и вовсе ограниченное время, пока не было получено указание о переходе на новую и гораздо более современную технику — истребители-бомбардировщики Су-17МЗ. Эскадрильи поочередно стали возвращать в Союз для переучивания. Первой зимой 1981 года отправилась домой 1-я эскадрилья, за ней в феврале последовала 2-я, и только 3-й эскадрилье пришлось задержаться до конца апреля. Тем не менее, именно с недолгой эксплуатацией МиГ-21СМ связана первая потеря 136-го апиб. В ходе переучивания на новый самолет 29 января 1980 года старший лейтенант Игорь Копьев разбился при возвращении на аэродром. Уже на подходе при выпуске посадочной механизации оторвался левый закрылок, самолет мгновенно перевернулся на спину и врезался в землю. На малой высоте не было возможности ни вывести машину, ни покинуть самолет, и молодой летчик погиб. В бумагах по какой-то причине осталась запись о гибели "при возвращении с боевого задания". По всей вероятности, поводом стало участие полка в это время в боевых действиях, к которым, однако, молодые летчики с недостатком опыта не привлекались. При постановке задач командование ВВС 40-й армии не делало особых различий между истребителями и истребителями-бомбардировщиками. Работы хватало всем, а по выучке истребители не уступали летчикам И-Б авиации, получая возможность на практике проверить навыки бомбометания и штурмовки, отрабатывавшихся по курсу боевой подготовки истребительной авиации. Бомбить с горизонтального полета на МиГ-21 было бесполезно ввиду неприспособленности машины к такой работе, и основным способом боевого применения являлись атаки с пикирования. Расчет при этом строился с заходом с безопасной высоты по условиям вывода, учитывая большую просадку самолета на выходе из пикирования в горных условиях со значительными превышениями и разреженностью воздуха. Требовалось также принимать во внимание повышенный разгон самолета с боевой нагрузкой при крутом пикировании, которое доводили до 60°, добиваясь точной укладки бомб. Хотя прицельное оборудование МиГ-21бис, оснащенного только стрелковым прицелом, выглядело более скромным по сравнению с прицельными комплексами новейших модификаций Су-17 и Су-25 с их вычислителями, лазерными дальномерами и допплеровскими радиосистемами, но в горах, занимающих 80% территории Афганистана и служивших основным прибежищем противнику, сложная автоматика давала много промахов, и на первый план выходили навыки и индивидуальные приемы летчиков, прицеливавшихся при сбросе бомб "по кончику ПВД". Эффективность ударов при отсутствии знакомых по боевой учебе целей (скоплений боевой техники, сооружений, позиций ракет и артиллерии) оставалась невысокой. Летавший молодым лейтенантом на МиГ-21бис М. Правдивец так вспоминал о своем первом боевом вылете: "Весной 1980 года летчиков в полку не хватало и пришлось доводить находившиеся в Афганистане эскадрильи до штатного комплекта переводом из других частей. Когда прибыл в Афганистан, никакого опыта у меня не было. Объяснили, что работать придется всё больше "по земле", а мы даже учебные бомбы ни разу не бросали. О теории бомбометания и технике пилотирования при ударах представление было туманным. Что-то все же я знал - как-никак, училище с красным дипломом закончил, но навыков не было никаких. Такими вот "асами" усилили боевые эскадрильи. После нескольких тренировочных полетов комэск включил меня в боевую пару. Предстояло нанести удар в Парминском ущелье рядом с Баграмом (мы его потом звали "алмазным ущельем", там повсюду были россыпи драгоценных камней). Зарядка самолетов составила по четыре бомбы ОФАБ-250-270. Атаку надо было выполнять по указаниям авианаводчика, цель - огневые точки по склонам гор. После постановки задачи я спросил у комэска: "А как бомбы сбрасывать?". Он мне объяснил, что главное держать боевой порядок и смотреть на него. Как только у него бомбы сойдут, то и мне сбрасывать с задержкой "и р-раз...", потому что с первого захода и в первой в жизни атаке я все равно не найду, куда целиться, тем более, что удар мы должны наносить по "предполагаемым" огневым точкам. А задержка нужна, чтобы бомбы легли с рассеиванием: нет смысла класть все восемь штук в одно место, пусть эти две тонны накроют большую площадь, так надежнее. Вылет выполнялся 8 августа ранним утром. Взлетели с рассветом, пока прохладнее, иначе взлет летом в дневную жару с четырьмя подвесками очень непрост. Самолет с четырьмя бомбами и впрямь разбегался непривычно долго. Над местом связались с наводчиком, он подсказал ориентиры и склон, по которому надо работать. В ущелье ранним утром было еще темновато. Следом за ведущим пикируем куда-то в темень. У него сошли "капли", я тоже жму на сброс. Впервые в жизни услышал, как самолет дрогнул при сходе бомб. Вывод. Наводчик говорит, куда легли разрывы и корректирует. Переключились на внутренние подвески и сделали еще заход. Опять сброс. Вывод. С земли просят "поддать еще разок", но ведущий докладывает, что "капель" больше нет, работу закончили и уходим на точку". Годом спустя Михаил Правдивец был уже опытным воздушным бойцом и имел на своем счету 380 боевых вылетов. В первый период боевых действий тактика не отличалась разнообразием: к цели самолеты, ведомые опытным летчиком, шли в строю колонны или пеленга, нанося удар один за другим, а иногда выстраиваясь в круг. Штурмовка цели производилась последовательно поодиночке или парами с пикирования бомбами, НАР и пушечным огнем. Ответная стрельба из автоматов и дедовских винтовок при этом не принималась в расчет, и на открытой местности летчики МиГов отваживались снижаться до предельно малых высот для достижения внезапности атаки. Включив форсаж и выйдя на сверхзвук, они подавляли врага громовым раскатом ударной волны, от которой вьючные лошади и верблюды (основной транспорт душманов) в ужасе разбегались по окрестностям.  На складе боепитания Баграма. На переднем плане — бомбы ОФАБ-250-270, за ними бетонобойные БетАБ-500 и сзади - толстостенные ФАБ-500ТС Поначалу приходилось ограничиваться почти исключительно действиями пар, но с наращиванием авиационной группировки пары сменили более солидные ударные группы. Удары стали наноситься группами в 4 — 8 истребителей, поскольку в условиях, когда каждый дувал в кишлаках, скала и расщелина в горах могли служить укрытием для противника, атака меньшими силами была неэффективна. При необходимости на бомбардировку баз и укрепленных районов уходили 12 - 16 самолетов. Особенностью действий истребительной авиации стала работа по объектам, расположенным в высокогорных районах, куда не могли "дотянуться" вертолеты и штурмовики. Истребители участвовали и в проводке транспортных колонн, при попытке обстрела образуя "внешнее кольцо" охраны ударами по выявленным огневым позициям. Над самой колонной непосредственное прикрытие вели сопровождавшие ее вертолеты. 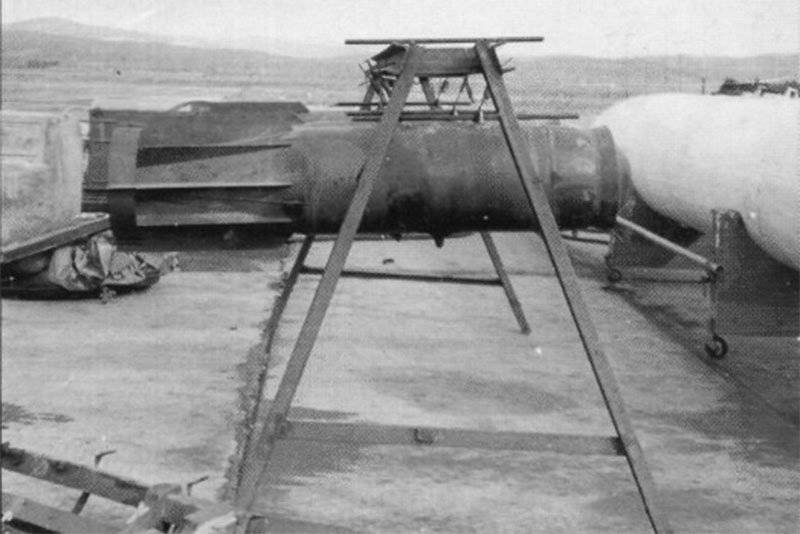 Самым практичным приспособлением стал мостик из стальных балок, на который подвешивались готовые бомбы, которые оставалось только сгрузить на тележки и развезти по самолетам  Толстостенная бомба ФАБ-500ТС в ожидании подвески на самолет Для более надежного взаимодействия с авиацией в состав колонн стали включать корректировщиков и авианаводчиков. Их назначали из числа летчиков и штурманов, по разным причинам оставивших летную работу, руководствуясь теми соображениями, что те достаточно хорошо представляют себе специфику деятельности в воздухе и, по крайней мере, знают, как выглядит местность и цель сверху. Обычным образом к поведению рейдовой операции привлекалось до двух батальонов мотострелковых войск или десантников с необходимым усилением бронетехникой и артиллерией, а также инженерными подразделениями для разминирования и снятия завалов при расчистке дорог. В составе группы руководства операцией находился представитель от авиаторов, которому выделялся специально оборудованный БТР, оснащенный радиостанциями для связи с КП ВВС. Такая группа боевого управления авиацией (ГБУ) при проведении боевых операций придавалась каждому мотострелковому или десантному батальону. В роты направлялись авианаводчики, находившиеся рядом с командиром мотострелкового или десантного подразделения, передвигаясь на броне БТР и БМП. Обязанность наводчика требовала постоянного внимания, хорошей ориентировки на местности, тактических способностей. От него зависела эффективность авиационной поддержки. Корректировщики, сопровождавшие войска в боевых порядках, должны были обладать еще и немалой выносливостью: им приходилось волочить на себе громоздкую рацию с блоком аккумуляторов 23-килограммового веса. Для этого обычно назначались два человека, включая солдата-помощника для переноски вьюка с аккумуляторами. Иногда использовался переносной генератор с ручным приводом, известный как "солдат-мотор". В горах, экранировавших прохождение радиоволн, для обеспечения радиосвязи необходимым становилось привлечение специальных самолетов-ретрансляторов Ан-26РТ, постоянно "висевших" над местом боевых действий. За первый год войны на обеспечение управления войсками их экипажами было выполнено 620 вылетов с общим налетом 2150 часов. Положение своих войск при штурмовке обозначалось цветными дымами сигнальных шашек, по ним же при поиске целей, руководствуясь командами с земли, определялись летчики. Применение оружия летчиками допускалось исключительно с разрешения авианаводчика, получавшего "добро" от командира сухопутной части, за которым он был закреплен. Тем самым сводилась к минимуму вероятность нанесения удара по своим, чего не удавалось избежать при самостоятельных действиях авиации. Перефразируя известное замечание о том, что "война — это слишком серьезное дело, чтобы его поручать военным", можно сказать, что и боевая авиация - это слишком грозная сила, чтобы поручать управление ею самим летчикам. Противник быстро оценил значение "управляющих" и старался вывести их из строя в первую очередь. Пленные моджахеды рассказывали, что их специально инструктируют по обнаружению и уничтожению авианаводчиков. Среди авиаторов офицеры боевого управления несли наибольшие потери, заслужив строки в песне: "Враг знает точно: там, где дым, лежит наводчик, невредим, и силу своего огня он направляет на меня..." Другой тактической новинкой стало взаимодействие авиации с артиллерией: летчики наносили удар по разрывам, целясь по хорошо видимым облакам пыли у цели. Еще одним непременным условием обеспечения действий авиации стала организация поисково-спасательных работ. Сбитый экипаж должен был иметь твердую уверенность, что его не оставят в опасности. На каждом аэродроме при производстве полетов в готовности находилась пара Ми-8 службы поиска и спасения (ПСС), ожидавшая вызова. Однако такое дежурство имело тот недостаток, что до места вынужденной посадки или приземления летчика требовалось добираться некоторое время, что могло окончиться печально для оказавшихся на контролируемой противником территории. Душманы не упускали случая поквитаться с ненавистными авиаторами, да и встреча с рядовыми жителями кишлака, по которому только что прошли бомбовым ударом, не сулила ничего хорошего. Оперативность ПСС являлась первостепенным условием ее деятельности, и было немало трагических случаев, когда буквально десяток минут задержки завершался для сбитого летчика трагически. Наиболее эффективной мерой стало оказание помощи пострадавшим из положения дежурства в воздухе с вертолетным сопровождением ударной группы. Присутствие вертолетов ПСС над местом удара позволяло тут же выхватывать с земли сбитый экипаж. За 1980 год было произведено 57 поисково-спасательных работ (вылетов было значительно больше, поскольку на подбор одного экипажа иной раз приходилось поднимать несколько вертолетных пар подряд), спасено 126 человек летного состава. "Бис" уверенно поднимал до тонны бомб, но полную нагрузку брали лишь при работе в близлежащих районах. Обычно МиГ-21 несли зарядку, не превышавшую двух 250-кг бомб - сказывались разреженный воздух высокогорья и жара (уже при обычных для этих мест +35° тяга двигателей Р25-300 падала на 15%). В этих условиях при нормальном взлетном весе разбег самолета достигал 1500 м против обычных 850 м. С "пятисотками" самолет, к тому же, становился труден в управлении на взлете и заметно терял скороподъемность. Брать большую бомбовую нагрузку за счет сокращения заправки было рискованно — летчики предпочитали иметь навигационный запас топлива при возвращении домой. Если обнаружить аэродром все же не удавалось, инструкция предписывала взять курс на север и, после полной выработки горючего, катапультироваться над советской территорией. Чаще всего применялись фугасные бомбы ФАБ-250 и осколочно-фугасные ОФАБ-250-270 с площадью поражения за полтора гектара, а также разовые бомбовые кассеты РБК-250 и РБК-250-275, отличавшиеся начинкой. Сброшенная кассета срабатывала на установленной высоте и её содержимое выбрасывалось вышибным зарядом из обычного охотничьего дымного пороха, обеспечивая накрытие обширной зоны. Поражающие характеристики осколочных бомб такого калибра позволяли бороться не только с живой силой, но и вполне удовлетворительным образом могли быть использованы при поражении машин в душманских караванах и стрелковых позиций, обычно прикрытых камнями, сносившимися попаданием небольших бомб. Еще большей эффективностью обладали пятисоткилограммовые кассеты РБК-500. РБК-500 несла 550 - 560 сферических полукилограммовых бомбочек ШОАБ-0,5. Малый калибр боеприпасов с лихвой компенсировался обширностью пораженной площади и проникновением повсюду сыплющейся начинки кассеты, секущей живую силу и огневые позиции ливнем убойных элементов. 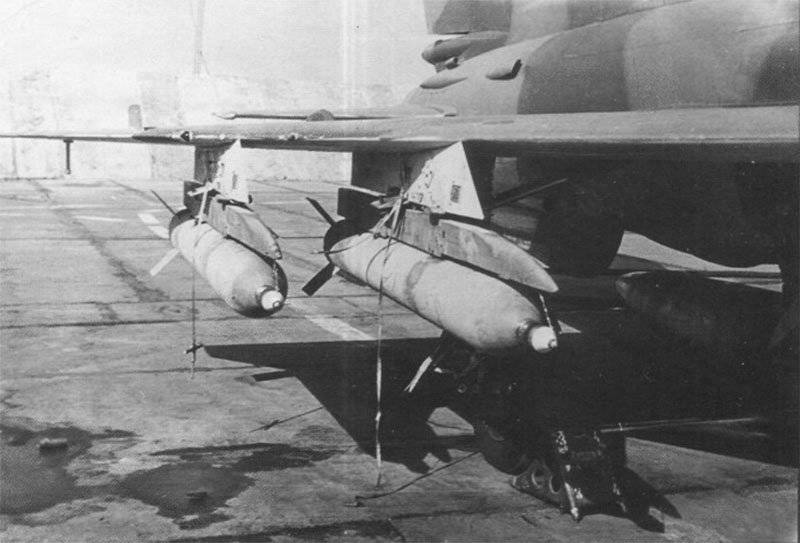 Подвеска реактивных снарядов С-24 на истребителе МиГ-21бис 115-го иап Массово использовались неуправляемые ракеты (НАР) типа С-5 разных исполнений, запускавшиеся из универсальных блоков УБ-16-57 и УБ-32. Ракеты калибра 57 мм сочетали фугасное и осколочное действие, для чего в современных их исполнениях оснащались осколочной рубашкой в виде надетых на корпус стальных колец с надрезами, разлетавшимися на сотни убойных сегментов. Против живой силы — крупных и мелких банд в местах базирования моджахедов, вьючных животных в караванах - применялись также специальные ракеты С-5С со стреловидными поражающими элементами. Каждая такая ракета несла 1000 оперенных стрел размером с гвоздь, на подлете к цели выбрасываемых вперед вышибным зарядом и способных изрешетить всё на площади 10 - 15 м2. "Крестным отцом" нового средства поражения выступал сам Главком ВВС П.С. Кутахов, следивший за новинками вооружения и не упускавший возможности поинтересоваться эффективностью "стрелок" при реальном боевом применении. Как выяснилось, использование С-5С на самолетах оказалось даже много более результативным, чем на боевых вертолетах, у которых блоки НАР были практически повседневным оружием. Как выяснилось, такому преимуществу способствовала скорость самолетов, в разы превосходившая скорость на вертолетных полетных режимах. В итоге легкие стрелки, весившие чуть больше грамма, быстро теряли энергию и пробивную силу, оказываясь неспособными поразить цель и даже пробить одежду. Препятствием для них выступали даже кусты, служившие укрытием душманам. В то же время при пуске с самолета скорость выстреленной стрелки сочеталась с собственной скоростью самолета, кинетическая энергия оказывалась в несколько раз выше, как и превосходящее поражающее действие, которого хватало даже для пробития ветвей и досок строений. При стрельбе НАР немалое воздействие на противника оказывал сам вид залпа десятков ракет, после которого цель исчезала в сплошных разрывах. Другим распространенным видом оружия были крупнокалиберные 240-мм НАР С-24, большая дальность пуска которых позволяла летчикам увереннее чувствовать себя в стесненных для маневра горных распадках, во время выхода из атаки. Мощная осколочно-фугасная боевая часть С-24 разносила в пыль толстостенные глинобитные дувалы, за которыми укрывались душманы, и превращала в груды камней огневые точки в горах. По своей эффективности боевая часть С-24 не уступала тяжелому снаряду и давала при разрыве до 4000 крупных осколков, поражавших противника на 300-400 м.  Техники грузят бомбы на тележки для доставки к самолетам При уничтожении "крепких орешков" типа скальных укрытий и пещер, служивших душманам надежными убежищами и складами, наилучшие результаты давали толстостенные бомбы ФАБ-250ТС и, особенно, ФАБ-500ТС, имевшие прочный литой корпус (обычными фугасками поразить пещеру можно было лишь при попадании в малозаметное устье, а взрывы на поверхности давали только выбоины). Такой боеприпас с цельным корпусом из качественной стали и литой головной частью двадцатисантиметровой толщины обладал лучшим проникающим действием, при котором мощь взрыва не расходовалась впустую на поверхности, а давала растрескивания в глубине, вызывая обрушения и обвалы сводов. Толстостенная бомба, пробивая скалу и разрываясь в толще камня, вызывала обвалы и обрушение сводов пещер. Такие боеприпасы широко применялись при "закрытии" базы в горном массиве Луркох в провинции Фарах в январе 1981 года, в Черных горах в сентябре того же года, где душманы пытались перерезать дорогу на Кандагар и в других местах. Чаще всего, однако, выбор боеприпасов определялся их наличием на складах из-за трудностей с подвозом. Случалось, запасы исчерпывались настолько, что командование урезало норму до минимума, заставляя летчиков брать не больше одной бомбы за раз (такое положение, в частности, сложилось на аэродромах к концу лета 1983 года). Всегда МиГ-21бис несли полный боекомплект к пушке. Первое время летчики использовали пушечный огонь весьма часто, возвращаясь с задания с пустыми патронными ящиками. Со временем, когда противодействие ПВО стало более ощутимым, пушка утратила значение - её использование требовало малых высот и небольших дальностей. При стрельбе с наиболее выгодного по условиям прицельной стрельбы пологого пикирования огонь следовало открывать с расстояния менее 1500 м, выводя самолет на высоте 300-400 м, в самой густоте зенитного огня. На смену такой тактике пришло по возможности более динамичное пилотирование и темп при нанесении удара, наносившегося с высоты на скорости и с энергичным выводом из атаки и зоны зенитного огня. При подобных действиях куда более выгодными были бомбы и, при необходимости, НАР. Другой причиной сведения к минимуму использования бортовой пушки являлась хлопотность её снаряжения: для подготовки пушки требовалось произвести её чистку с полной разборкой после предыдущей стрельбы, снимая для этого с самолета. С помощью специальной машинки требовалось набить ленту 200 патронами и уложить её в рукавах пушечной установки в фюзеляже, предварительно подготовив патроны, каждый из которых после вскрытия цинка следовало тщательно протереть и, затем, проверить их укладку в звеньях ленты без выступаний и перекосов. Всё это отнимало много времени и сил, из-за чего на первое место выступали наиболее несложные варианты вооружения: подвесить бомбы и набить блоки НАР можно было намного скорее и без специальных приспособлений, к тому же этим могли заниматься даже неспециалисты, техники и солдаты. Благодаря хорошим навыкам эскадрилью при подвеске бомб удавалось полностью подготовить всего за 25-30 минут. Однако и после утраты пушкой значимости при выполнении основного задания истребители в обязательном порядке снаряжались патронами: пушка оставалась своего рода "личным оружием" летчика, которое могло пригодиться после израсходования подвесок. Всего за первый год войны ВВС 40-й армии были выполнены порядка 72000 боевых вылетов с общим налетом 83000 часов, в том числе на малых и предельно малых высотах - 59700 часов, на средних и больших высотах - 12100 часов и в стратосфере - чуть более 30 часов (последние выполнялись истребителями по курсу боевой подготовки, требовавшему сохранения летчиками навыков, так как без соответствующих упражнений не присваивалась следующая ступень квалификации). Были произведены 7810 бомбометаний. Расход боеприпасов составил свыше 12600 фугасных и осколочно-фугасных бомб, около 1850 разовых бомбовых кассет разных типов, порядка 240 бетонобойных бомб, 450 зажигательных бака и бомб, 40 объемно-детонирующих бомб и 1050 осветительных бомб. Преобладающим образом использовались осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-250-270 (36% общего числа бомбардировочных средств поражения) и ОФАБ-100-120 (14% всех израсходованных). Реактивных снарядов всех типов (С-5, С-8, С-24 и С-25) выработали почти 635000 штук. Если по вышеприведенным средствам поражения не представляется возможным указать, какую долю из общего числа использовали истребители, то в отношении пушечного вооружения в отчетности можно привести конкретные цифры. Патронов к пушкам ГШ-23Л на МиГ-21бис израсходовано было за год около 290500 (почти 1500 полных боекомплектов или по 60 боекомплектов на самолет). Такой расход пушечных боеприпасов истребителями ВВС 40-й армии более чем в 20 раз превышал расход патронов истребителями-бомбардировщиками Су-17. Афганские летчики летали на МиГ-21МФ и МиГ-21бис, входивших в состав 322-го истребительного полка. К весне 1980 года в Мазари-Шарифе находились также 50 истребителей МиГ-17Ф/ПФ, использовавшиеся для штурмовки и учебных целей. В технике пилотирования многие из афганцев не уступали советским летчикам, и причина этого крылась отнюдь не в глубокой "идейной убежденности" и революционных настроениях. Афганские пилоты большей частью были выходцами из знатных пуштунских и таджикских родов, чувствовали себя в воздухе раскованно и мало обращали внимание на всевозможные наставления и ограничения, как в наших ВВС. При этом, однако, их боеспособность нельзя было назвать высокой - летали афганцы от силы один - два дня в неделю, с обязательным предписанным Кораном выходным по пятницам. Выполнением боевых задач они себя особо не утруждали, считая бомбовую нагрузку из пары "соток" вполне достаточной (да и те часто ложились в стороне от цели). Случалось, из взрывателей бомб местные оружейники забывали вынуть чеки, превращая их в бесполезный груз. Штаб 40-й армии отмечал: "в самостоятельных действиях у афганцев пропадает желание воевать" и, чтобы повысить результативность боевой работы, советским инструкторам нередко приходилось самим занимать места в кабинах афганских самолетов. В одном из таких вылетов 12 ноября 1985 года погиб советник при руководстве афганских ВВС генерал-майор Н.А. Власов. Выполняя перелет из Кандагара в Шинданд на МиГ-21бис, его самолет был сбит ДШК. Летчик катапультировался, однако при попытке врагов взять его в плен погиб в бою на земле. Подготовка машин союзников оставляла желать лучшего, а при малейшем повреждении самолеты даже не пытались восстанавливать, пуская на запчасти, а то и просто разворовывая. Достопримечательностью Шиндандского аэродрома долгое время был "промазавший" при посадке самолет, хвост которого торчал из пролома в стенке местного КП, со второго этажа которого как ни в чем ни бывало продолжали разноситься команды. ВВС ДРА теряли в 3-4 раза больше машин, чем советские части, т.к. получение дармовой техники из СССР было гарантировано. Впрочем, о судьбе поставок ни у кого не было иллюзий, и среди этих самолетов попадались успевшие повоевать подремонтированные машины, еще хранившие на бортах звездочки - отметки о боевых вылетах. Основная тяжесть боевой работы оставалась на советских авиаторах, не знавших ни выходных, ни праздников. За год пребывания в ДРА они успевали налетать 2,5-3 нормы "мирного времени", при этом на отдельных самолетах выполнялось по 450-470 вылетов. За 1984 год на долю истребительной авиации приходилось 28% от общего числа БШУ и 6% всех разведрейдов. Интенсивность боевой работы летчиков-истребителей была на треть выше, чем в истребительно-бомбардировочной авиации и опережала даже штурмовиков, уступая по напряженности только экипажам вертолетов. Со временем еще больше возросшая нагрузка заставила комплектовать полки вторым составом летчиков и техников из других частей. Это позволяло приобрести боевой опыт большему числу авиаторов и, по возможности, удержать нагрузку на людей в допустимых пределах (хотя и при этом каждый рабочий день, начинавшийся еще до восхода солнца, длился 12-14 часов, а полк успевал "переработать" 15, 20, а то 30 тонн бомб и "допустимые пределы" сводились к тому, что люди все же не падали от усталости).  Хотя многие вылеты приходилось выполнять на пределе возможности техники, надежность МиГ-21 оказалась весьма высокой. Боеготовые машины составляли 85-90% и даже по сложным системам (навигационному и радиооборудованию) число отказов было небольшим. Нарекания вызывало остекление фонаря, быстро желтевшее и терявшее прозрачность от солнца и пыли. Вездесущая, всепроникающая пыль грозила полностью забить топливные фильтры и жиклеры топливной арматуры, вынуждая чистить их как можно более часто. Жиклеры продували сжатым воздухом, а для чистки фильтров требовалась специальная установка, "выбивавшая" осевший осадок ультразвуковой тряской. Из-за разреженности воздуха и жары посадочная скорость порядком превышала обычную, что сказывалось на шасси, работе амортизаторов и колес. В летнюю жару садившиеся самолеты встречали с поливальными машинами или просто с ведрами воды, чтобы побыстрее охладить перегревшиеся колеса — иначе давлением могло разнести пневматики. Тормозные диски снашивались в несколько раз быстрее обычного, а резина колес буквально "горела" на аэродромах. Неприятностей доставлял вечно задувавший ветер, приносивший на полосу камни, которыми полосовало пневматики. Интенсивная эксплуатация все же не могла не сказаться на состоянии техники — из-за недостатка времени регламентные работы выполнялись на скорую руку, ремонтировать и латать самолеты приходилось на месте. После года работы на них накапливались многочисленные дефекты, был полностью "выбит" ресурс, и по возвращении в СССР истребители приходилось отправлять в капитальный ремонт. Подтверждением были и данные отчетности: аварии по небоевым причинам в тяжелых условиях работы не уступали, а часто и превосходили потери от огня противника. Первое время противодействие ПВО противника было незначительным. Душманы располагали лишь стрелковым оружием, тактической подготовки не имели, а стрельба по воздушной цели требовала выучки. Пленные рассказывали, что преимущественным образом практикуется "китайский метод", когда весь отряд открывает огонь из автоматов, целя перед пролетающим самолетом в надежде, что тот налетит на завесу летящих куда попало пуль. В 115-м иап время от времени самолеты приходили с пробоинами. Однажды после попадания в радиоотсек пули ДШК перед кабиной летчика были перебиты электрожгуты и короткое замыкание переросло в пожар, которым выжгло часть отсека и аппаратуры. Тем не менее, самолет смог вернуться и сесть, а после ремонта вернуться в строй. 22 января 1980 года истребитель в полете подвергся обстрелу, повредившему двигатель. Пулевыми попаданиями помяло лопатки компрессора, получившие множественные забоины и вырывы материала размером в палец. Тем не менее двигатель продолжал работать и буквально дотянул машину до аэродрома. При вылете 26 августа 1980 года летчик МиГ-21 бис почувствовал удар в нижней части самолета. На вернувшемся истребителе насчитали семь осколочных пробоин, некоторые размером в кулак; были снесены антенны ответчика и испещрены забоинами четыре первых ступени компрессора двигателя. 1 августа 1980 года не вернулся с задания МиГ-21бис старшего лейтенанта Виктора Чешенко. В составе группы он выполнял вылет по целям у Джабаль-Уссарадж. О произошедшем рассказывали участники вылета: "Это произошло совсем рядом с аэродромом Баграм, перед входом в Панджшерское ущелье. Удар наносили двумя звеньями. Пара, где Чешенко был ведущим, а Иван Черненко - ведомым, была второй в звене. У них была зарядка по два С-24 и по две бомбы ОФАБ-250-270. Второе звено шло выше в ожидании своей очереди на заход. При заходе для работы снарядами С-24 Иван Черненко отпустил вперёд ведущего, увеличив дистанцию, чтобы самому лучше прицелиться для более надежного поражения цели. После вывода из атаки он не обнаружил ведущего. Несколько раз ведомый запрашивал его, но Чешенко не отвечал. Ни в коем случае при работе нельзя распускать пару, ведущий и ведомый — это единое целое, вместе они действуют и прикрывают друг друга, этому учат в первую очередь. Не нами и не на афганской войне это было открыто, и такими истинами пренебрегать нельзя. Командир второго звена, майор Андрей Тихонов, находившегося выше, впоследствии рассказывал, что увидел сильный взрыв на земле с яркой вспышкой и подумал, что попали в склад с боеприпасами. Тут и руководитель полетов подполковник Хохлов объявил, что Чешенко на экранах не наблюдается и дал команду "вертушкам" ПСС подниматься в воздух. Самолеты группы к этому времени стали садиться, но машины Чешенко не было. Остальные ходили кругами над местом удара, ждали вестей от "вертушек", надеясь на чудо. Вертолеты вышли к месту, чтобы выяснить обстановку и подобрать остатки самолета и попытаться отыскать летчика. Там их встретили сильнейшим огнем, палили со склонов гор изо всего, что может стрелять. Вертолетчикам пришлось сначала обрабатывать НУРСами вражеские позиции и только после этого высаживать десантников. Тем удалось взять одного "духа" и собрать остатки самолета (что смогли подобрать). На базе уже осмотрели обломки и обнаружили по накладному баку на уровне кабины летчика по всей длине от кабины до киля пулевые пробоины. По всей видимости, полоснула автоматная или пулеметная очередь, и летчик был убит в кабине в момент вывода из атаки. Это подтвердил и пленный, рассказавший, что стреляли все сразу, чтобы создать стену огня, когда самолет снижался. Прощания с погибшим никакого не было, отправили его на транспортнике домой и всё. Мы спрашивали у замполита, почему так не по-людски поступили, он ответил — мол, принято решение не деморализовать летчиков, чтобы страха летать не возникало. Конечно, все были подавлены гибелью боевого друга и товарища, но все считали, что погибшего в боевом вылете летчика следует провожать почетно, со всеми полагающимися почестями и салютом. Ему тогда только 25 лет исполнилось, уже в Афганистане ". Тремя месяцами спустя, 12 ноября 1980 года, при нанесении удара в районе Файзабада был сбит самолет начальника штаба эскадрильи капитана Алексея Проказина. Налет выполнялся составом эскадрильи с боевой зарядкой по две бомбы ОФАБ-250-270 и парой подкрыльевых подвесных топливных бака ёмкостью по 490 л. Целеуказание обеспечивали вертолеты, пусками НАР обозначившие цели. Они же предупредили, что в районе цели работает ДШК. Ведущий комэск майор В. Федченко принял решение сначала атаковать одиночно, чтобы вертолетчики по разрывам его бомб подкорректировали удар для остальных. Шедший его ведомым Проказин следом пошел в пикирование, из которого его МиГ-21бис уже не вышел. На крутом снижении его самолет потерял управление и ведущий услышал только "В штопоре! Катап..." Летчик успел покинуть самолет — с соседних машин ясно видели, как от МиГа отделилось кресло и слетевший фонарь. Почти сразу над горами раскрылся парашют. Остальные летчики группы стали снижаться, чтобы прикрыть Проказина. Вертолетчикам, направившимся спасать летчика, пришлось непросто — высота склона, на котором он приземлился, была за 3500 м, и разреженный воздух не держал Ми-8, несущих свойств которых не хватало для того, чтобы удержать и посадить машину. Кое-как с очередного захода минут через 15 удалось сесть и подобрать Проказина. Сам он уже дома рассказывал: "После катапультирования почти сразу приземлился. Склон был крутой, я покатился вниз и зацепился за камни, запутавшись в стропах и повиснув вниз головой. Слышал стрельбу — рядом палили душманы. Стал энергично выпутываться, освободившись от ремней привязной системы. Затем полез вверх по склону, сообразив, что иначе меня не заметить внизу. Вспомнил про автомат, но его на ремне не оказалось. Увидел, что ниже кружат вертолеты, работающие по "духам", а на вершине пытается сесть еще один, а другой его прикрывает. Стал карабкаться еще энергичнее, выбираясь к месту, где пыталась сесть "вертушка". Сердце бешено колотилось, воздуха не хватало, думал — сердце вовсе выскочит из груди. Посрывал ногти, пока лез вверх по камням. Когда вертолет все-таки сел, откуда только силы взялись - побежал к нему, размахивая сумкой. Повезло очень, шансов не было практически никаких, но все же удалось выбраться. А вертолетчика этого потом встречал - его представляли к Герою, но ничего он так и не получил, хоть и имел больше всех в полку боевых вылетов ". Причиной потери самолета Проказина могло стать его поражение вражеским зенитным огнем или, судя по поведению машины и первому докладу самого летчика, более вероятна утрата управляемости на пикировании. Задача отнюдь не являлась простой и требовала хорошей подготовки летчика и техники выполнения: на высоте ввод в пикирование следовало выполнять энергично, со включением форсажа и перегрузкой для сокращения потери высоты на выводе. Самолет на пикировании разгонялся до скорости звука, критичной при нахождении под крылом подвесных баков и полутонны бомб, вместе тянувших за полторы тонны. Нагрузка на крыло была повышенной и страдала аэродинамика, что в трансзвуковом диапазоне на выводе могло привести к "подхвату" и забросу перегрузки с потерей управления. Разбор происшествия проводил заместитель командующего ВВС 40-й армии генерал-майор Шпак, но все участники вылета утверждали, что самолет был сбит. С усилением ПВО моджахедов самолеты все чаще натыкались на зенитный огонь. По сообщениям летчиков, горы буквально искрили "сваркой", особенно возле баз и опорных пунктов, прикрытых 12,7-мм пулеметами ДШК, обычно отбитыми у правительственных частей или китайского производства, и 14,5-мм зенитными горными установками ЗГУ с дальностью поражения до 2000 м. В 1985 году на их долю приходилось 62,5% всех боевых повреждений самолетов. Основными причинами потерь командование ВВС признавало недостатки в планировании операций и недостаточный учет ПВО противника. Чтобы застать моджахедов врасплох и не дать организовать огонь, поначалу практиковались атаки со сверхмалых высот (до 50 - 60 м). Однако эта тактика, выработанная для европейского ТВД, не встретила энтузиазма среди летчиков, так как в условиях сложного рельефа в таких полетах на малой высоте приходилось уменьшать скорость, а при снижении в межгорья велик был риск нарваться на засаду или попасть под огонь сверху. Практичнее стало прокладывание безопасных "обходных" маршрутов, выход к цели с направлений, не прикрытых ПВО, уход на безопасные высоты. Помимо этого, начали применять "активные меры" - выделять специальные группы для подавления ПВО. Борьба с зенитными средствами оказалась небезопасной - уничтожить позицию можно было только прямым попаданием, иначе на смену "выбитому" расчету тут же приходил следующий, и огонь возобновлялся (иногда один за другим сменялись 2 - 3 стрелка). Нередко противник оборудовал рядом несколько зенитных точек, разнесенных по высоте, и самолет, атаковавший одну из них, попадал под огонь соседних. К тому же их точное положение не всегда вскрывалось заранее и разведывательная информация зачастую ограничивалась всего лишь сведениями об ожидаемом наличии в районе удара зенитных точек. Чтобы сократить время пребывания под обстрелом, удар следовало наносить на большой скорости, не ниже 950-1000 км/ч, и для этого чаще всего выделялись истребители, вооруженные НАР или РБК. В МиГ-21, стремительный и меньший по размерам, чем Су-17, нелегко было попасть. За скорость и маневренность, "шустрый нрав", МиГ-21 в Афганистане прозвали "веселым" и команда на вызов истребителей с КП так и звучала открытым текстом: "Звено "веселых" поднять в такой-то район". При этом тактика истребителей имела свои особенности: для достижения внезапности удар наносился со стороны солнца, слепившего стрелков, выход из атаки истребители выполняли боевым разворотом с энергичным набором высоты и резким отворотом-"крючком" в сторону; при необходимости выполнялся "звездный налет" ("ромашка"), при котором атаки следовали непрерывно с разных направлений, мешая моджахедам вести прицельный огонь. Иногда выделяли демонстрационное звено, имитировавшее налет и отвлекавшее на себя внимание зенитчиков, в то время как ударная группа выходила в атаку с другой стороны. Для защиты от появившихся у противника современных зенитных средств - ПЗРК с ракетами, реагировавшими на тепло самолетных двигателей - МиГ-21 бис были доработаны с установкой кассет АСО-2В с тепловыми ловушками. Эти кассеты подвешивались на места крепления стартовых ускорителей в нижней части фюзеляжа. Снаряжались кассеты несколькими десятками пиропатронов, которые при отстреле разгорались, высокой температурой отвлекая на себя головки самонаведения ракет. Расчисткой местности от очагов зенитного огня сопровождались не только авиационные налеты, но и высадка вертолетных десантов. Типовое построение удара по укрепленному значимому объекту могло предусматривать включение нескольких групп с определенным назначением. Последовательным образом они производили обработку цели. Первой обрабатывала объект атаки группа подавления ПВО из пары или звена МиГ-21, наносивших удар по объекту и склонам гор по обеим сторонам намеченного боевого курса основной группы с использование РБК с осколочным снаряжением и блоков со снарядами типа С-5. Следом перед самым подходом ударной группы пара вертолетов Ми-8 обозначала цель бомбами или НАР, поднимавшими хорошо заметные облака пыли. На их борт часто брали наводчиков из местных жителей, сотрудничавших с армией (такие услуги, понятным образом, соответственно оплачивались). В роли целеуказателей могла выступать пара самолетов из состава ударной группы. Сам удар по цели наносился силами одного-двух звеньев МиГ-21 с боевой зарядкой соответственно задаче и характеру цели. По окончании налета непременным образом осуществлялся объективный контроль для выявления результатов, характера поражения цели и решения о необходимости повторного удара. Так, в крупной операции, проводившейся в январе 1982 года в районе города Дарзаб, целью которой было уничтожение банд в приграничных с СССР районах, для борьбы с ПВО использовали 12 истребителей МиГ-21бис, которые несли РБК-250-275 с осколочной "начинкой". Боевая работа 115-го иап в составе ВВС 40-й армии продолжалась до 12 июня 1981 года, когда полк был сменен другой частью, также привлеченной из южных округов. Эстафету принял 27-й гвардейский Выборгский Краснознаменный истребительный авиаполк, базировавшийся в городке Уч-Арал на юго-востоке Казахстана, граничащем с Китаем, куда полк был переброшен в начале 70-х для укрепления напряженной тогда китайской границы. По всей видимости, при комплектовании сил советского контингента в Афганистане тогда начальство все еще питало надежды справиться с задачами местными силами. К тому же, служившим в ТуркВО и САВО авиаторам привычнее были здешние условия, сама местность и особенности службы в тамошнем климате. 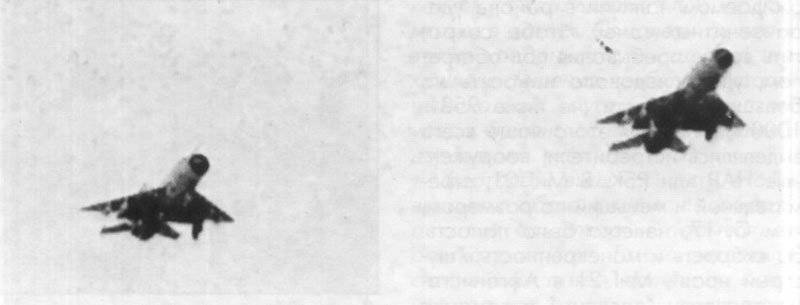 Взлет пары Миг-21бис с полосы Баграма Направлявшиеся в Афганистан истребительные полки оставляли на месте часть самолетов (чтобы не оголять аэродром основного базирования) и обычно имели в своем составе две усиленные эскадрильи с общим числом 30-35 самолетов. Особенно большую нагрузку несли учебно-боевые МиГ-21УС/УМ. Помимо тренировок, "спарки" использовались в вывозных полетах, в которых летчики знакомились с районом боевых действий, для ведения разведки и целеуказания (место инструктора при этом занимал опытный летчик или штурман, хорошо знавший местность, а лишняя пара глаз способствовала поиску цели). С помощью "спарок" осуществляли руководство, когда над местом удара "висел" кто-либо из штаба ВВС, и последующий контроль результатов налетов. 27-м полком командовал полковник Виктор Севастьянович Кот — будущий командующий фронтовой авиацией, за боевую работу в Афганистане удостоенный звания Героя Советского Союза. Командиром 1-й эскадрильи, направленной в Кандагар, был подполковник В. Веропотвельян, 2-й эскадрильей, размещенной вместе со штабом и группой руководства полка в Баграме, - подполковник К. Рыбников. Для ознакомления с особенностями боевого применения, местами будущей боевой работы и местной спецификой летчики в течение нескольких дней летали в группе со сменяемым составом 115-го полка. Уже в первых боевых вылетах новички получили представление о сложности обстановки, встретив серьезное сопротивление ПВО душманов. В одном из совместных боевых вылетов 9 июня 1 981 года один из МиГ-21бис уч-аральского полка попал под автоматный огонь, привезя массу пробоин. Пулями были пробиты щитки передней стойки, перебита тяга на основной стойке шасси, разрушены трубопроводы гидравлики и перебиты несколько электропроводов и деталей электроарматуры. Самолет в течение нескольких дней был введен в строй. Возвращением с разбитой гидравликой завершился и вылет начальника штаба полка полполковника Ю.С. Шурова 27 июня, на котором при нанесении БШУ по крепости под Гардезом на юге от Баграма пуля ДШК разнесла арматуру управления конусом воздухозаборника. Едва не завершился аварией вылет капитана В.А. Семенова, забывшего перед выруливанием закрыть и загерметизировать фонарь (из-за жары летчик открывал его, проветривая кабину в ожидании "добра" на запуск). Фонарь стал открываться при разбеге, отсасываемый воздухом по мере набора скорости. Летчик пытался удержать его, перехватив управление другой рукой, но тут же осознал безнадежность этих попыток (недавно при аналогичных обстоятельствах погиб в потерявшем управление самолете летчик другого истребительного полка). Прекратив взлет, он выпустил тормозной парашют и намертво зажал тормоза колес. Парашют на скорости сразу оторвало, пневматики лопнули при резком торможении, и самолет вынесло с полосы. Бороздя землю, истребитель потерял подвесной бак и блок УБ-16-57, набитый реактивными снарядами. Досталось и шедшему ведомым лейтенанту В. Реберко, самолет которого разбегался по полосе, усеянной обломками колесных дисков и резиной разлетевшихся пневматиков. При вылете 29 апреля 1982 года зажигательная пуля ДШК попала в правый крыльевой бак, вызвав взрыв паров керосина. Бак выдержал удар, но обшивку вспучило, и крыло необходимо было менять целиком. Перегонять поврежденную машину на ремонтное предприятие не решились, и пришлось восстанавливать самолет в полевых условиях. Новую консоль потребовалось заказывать на заводе, а затем подгонять на самолет, что заняло месяц. Список боевых повреждений самолетов 27-го полка включал даже повреждения от противопехотных мин, которыми на той же неделе, 26 апреля 1982 года, была обстреляна стоянка Баграмского аэродрома. Осколками мин были пробиты конус одного из истребителей и разбито лобовое стекло фонаря. Щербины глубиной в палец в нескольких местах изувечили бронестекло, которое пришлось менять. Уже на второй неделе боевой работы полк понес потерю: в боевом вылете 15 июня 1981 года в районе ущелья Тора-Бора в провинции Нангархар огнем ДШК была сбита "спарка" с экипажем майора Виктора Московчука и капитана Михаила Корчинского. Самолет вылетел для контроля результатов удара других истребителей, выполнявших налет на опорный пункт в кишлаке. При проходе над целью летчики снизились для лучшей видимости и "спарка" была обстреляна стоявшим на крыше одного из домов ДШК. Спасательная группа не смогла подойти к месту падения самолета из-за плотного огня с земли. Позже все-таки удалось подобрать обломки самолета, по которым установили, что летевший во второй кабине Московчук был убит еще в воздухе, о чем говорили пулевые пробоины в заднем фонаре и пятна крови. Корчинскому удалось катапультироваться, после чего он три дня прятался от "духов" в горах, но все же попал в плен и был переправлен в Пакистан. Обращение тамошних военных было на удивление уважительным, и позднее летчика вернули советским представителям. По возвращении он месяц восстанавливался в госпитале, однако на истребителях больше не летал, продолжив службу в транспортной авиации на Ан-26. Тело Московчука так и не было найдено, из-за чего он остался считающимся пропавшим без вести. Однополчане не раз поднимали вопрос о признании его погибшим при выполнении боевого задания, однако в верхах даже спустя годы так и не сочли доводы убедительными для посмертного отдания почестей летчику. Тем же летом 1981 года был сбит самолет комэска В. Веропотвельяна, шедшего ведущим группы из двух звеньев. После остановки загоревшегося двигателя на взлете летчику пришлось катапультироваться, на месте приземления его прикрыли огнем с других самолетов эскадрильи и подоспевший Ми-8 подобрал летчика. Уже перед выводом полка домой он понес еще одну утрату. 27 мая 1982 года в ходе удара по цели у селения Авунд был сбит МиГ-21бис капитана Андрея Срибного. Уже на выходе из атаки ведущий пары майор А. Железов взглянул в перископ своего самолета и увидел позади вспышку взрыва. Истребитель Срибного взорвался в воздухе — по всей вероятности, зенитный огонь задел подвешенную бомбу. В середине июня 1982 года на смену 27-му иап прибыл 145-й истребительный полк. На этот раз, "сменив традицию", для работы в Афганистане привлекли истребителей из европейской части СССР -из состава ВВС Прикарпатского военного округа, где полк базировался в Ивано-Франковске. Причины имели простое объяснение - войне конца не предвиделось, а в южных округах истребительных частей насчитывалось всего ничего и, руководствуясь прежней методикой отбора, пришлось бы посылать их в Афганистан по второму разу. Очередники были определены еще год назад: в соответствии с директивой Генштаба от 17 апреля 1981 года группе двухэскадрильного состава 145-го иап надлежало 1 июня 1982 года убыть "в распоряжение командующего ВВС ТуркВО". Загодя намеченная замена, с учетом имевшихся примеров недостаточной выучки авиаторов и сложности начального периода боевой деятельности, была призвана наладить подготовку к боевой работе в предстоящий более чем достаточный срок. В назначенный день группа из 24 боевых МиГ-21бис и четырех "спарок" МиГ-21УМ отправилась в перелет по маршруту протяженностью более чем пять тысяч километров. Командиром полковой группы был полковник Михаил Конфиндратов, 1-й эскадрильей командовал Николай Блинов, 2-й - подполковник Владимир Логачев. Перелет занял несколько дней с пятью промежуточными посадками. Уроки Афганистана были должным образом учтены: прибыв в Кокайты, группа задержалась для акклиматизации к жаркому климату и прохождения тренажей перед началом боевой деятельности. Правда, начальство как-то не додумало, что запланированные смены истребителей приходились на летнее время года, самое неблагоприятное для акклиматизации, когда иссушающая жара буквально выбивала людей из привычного ритма. Летчики несколько раз слетали по маршруту для представления об ориентировании над горно-пустынной местностью, отработали на полигоне бомбометание и стрельбы реактивными снарядами.  Последние замечания перед вылетом. 145-й иап, Баграм, зима 1983 года 16-17 июня 1982 года группа перелетела в Афганистан. Местом базирования 1-й эскадрильи стал Баграм, 2-я эскадрилья разместилась в Кандагаре. Одно звено постоянно направлялось в Шинданд для несения боевого дежурства в системе ПВО. Для выполнения истребительных задач при сопровождении ударных групп и патрулировании приграничных районов МиГ-21бис оснащались ракетами воздушного боя — обычно по четыре ракеты Р-13М или две Р-13М и две Р-60. Могло использоваться сочетание вооружения из двух Р-13М и пары бомб или РБК-250, чтобы при необходимости имелась возможность поддержать ударную группу, атаковав выявленные огневые точки и очаги ПВО. Должная подготовка позволила сократить боевые повреждения и потери до минимума. Потерь летного состава в полку не было. За все время пребывания в Афганистане 145-й иап лишился только одного Миг-21бис замполита 1-й эскадрильи майора Григория Шаповала, сбитого у Баграма 18 августа 1982 года и успешно катапультировавшегося. Летом 1982 года крайне обострилось положение у Кандагарского аэродрома, где противник оседлал прилегающие дороги и часто обстреливал стоянки (как шутили сами авиаторы: "духи" вводят новичков в строй"). Колоннам с горючим и боеприпасами для снабжения авиабазы приходилось идти в обход душманских засад, на подходах к базе сворачивая с шоссе в пески и пробираясь к аэродрому окольными путями. При минометных налетах и обстрелах реактивными снарядами получили ранения несколько механиков и водителей. При обстреле 24 июля пулеметным огнем был серьезно поврежден МиГ-21бис, у которого множественными пробоинами был прошит фюзеляжный топливный бак, вырваны лючки по фюзеляжу, пулями порван силовой набор, шпангоуты и стрингеры. На самолете пришлось латать рваные панели фюзеляжа, заклеивать пробитый гермоотсек прорезиненной тканью и целиком менять мягкий топливный бак. Тремя днями спустя еще один истребитель при обстреле аэродрома получил пулевые пробоины. Автоматными пулями пробило накладной топливный бак в гаргроте у самой заливной горловины. Дыру заделали пистоном, посаженным на клее, и к концу дня самолет был возвращен в строй. 145-й полк пробыл в Афганистане ровно 13 месяцев. Полк покинул ДРА 17 июля 1983 года, в течение всего двух дней выполнив обратный перелет и уже 18 июля прибыв домой в Ивано-Франковск.  МиГ-21бис из состава 145-го иап выруливает на взлет Очередность принял 927-й Кенигсбергский ордена Александра Невского Краснознаменный истребительный авиационный полк из состава ВВС Белорусского военного округа. Командовал полком полковник П.П. Тарасевич. В Афганистан перебазировались 28 истребителей МиГ-21бис и четыре "спарки" МиГ-21УМ. По прибытии на аэродром Кокайты 15 июня 1983 года полк в течение десяти дней занимался боевой подготовкой. Перелет на афганские аэродромы состоялся 25 июня. Размещение производилось по уже устоявшейся схеме на трех аэродромах: основной базой служил Баграм, остальные истребители работали с аэродромов Кандагара и Шинданда. В течение четырех дней летчики выполняли совместные полеты с коллегами из сменяемого 145-го иап, принимая зоны боевой работы. На долю белорусского полка пришелся большой объем боевой деятельности. В этот период армией проводилось несколько десятков плановых операций, включая знаменитый "Большой Панджшер" весной 1984 года, беспрецедентный по масштабам и привлечению авиационных сил. По воспоминаниям летчиков, летали практически каждодневно и единственным исключением стало 1 января 1984 года, и то по той причине, что аэродром Баграма завалило снегом (правда, уже к вечеру он стаял и вылеты возобновились). Распорядок тоже был очень плотным: при плановой работе подъем в три утра, после завтрака выезд на аэродром и получение предполетных указаний. Самолеты готовились к вылету, включая подвеску боеприпасов, уже с вечера, и в 4.30 - 4.40 с рассветом следовал первый вылет. К пяти утра самолеты находились над целью, нанося первый удар. По возвращении самолеты готовили к повторному вылету, заправляя, снаряжая вооружением, обслуживая по всем системам и устраняя отмеченные замечания после полета. Обычными были три-четыре вылета за смену. Днем с наступлением полуденной жары обычно следовал перерыв. Под вечер командир ставил задачу на следующий день, описывая цели и вероятное зенитное противодействие, назначались время удара, наряд сил и боевая зарядка самолетов. С учетом неблагоприятных особенностей обстановки, высоких температур, превышения аэродромов базирования с разреженностью воздуха, сказывающихся на несущих свойствах машин, взлетном весе, заправке топливом, сокращении тактического радиуса самолетов и времени их нахождения в районе цели, боевая зарядка, по возможности, назначалась пониженной против предусмотренной "домашними" наставлениями. Соответственно, требовался увеличенный наряд сил для надежного поражения цели. Так, для нанесения удара по типовому объекту - крепости - предусматривалось выделение двух звеньев МиГ-21 (шести самолетов с подвеской двух фугасных бомб ФАБ-500 и пары с подвеской двух реактивных снарядов С-24). Отдельный дом в кишлаке, представлявший собой размерное строение с толстостенными дувалами, требовал нанесения удара 8 - 10 самолетами; шесть из них несли по четыре бомбы ОФАБ-250-270, и еще четыре - по два снаряда С-24. Даже задача уничтожения укрепленной огневой точки в горах делала необходимой вылет эскадрильи, у которой восемь МиГ-21 несли снаряды С-24 и звено - блоки с ракетами типа С-5. При действиях по крупным караванам назначались два звена истребителей: первое атаковало осколочно-фугасными бомбами, по четыре ОФАБ-250-270 на самолете, следующее наносило ракетный удар, используя полный вариант подвески блоков из пары УБ-32 и двух УБ-16-57 (использование разнотипных блоков разной вместимости, двух УБ-32 на внутренних подкрыльевых узлах и двух меньших УБ-16-57 на внешних держателях, было оговорено регламентом по эксплуатации МиГ-21 бис ввиду влияния таких подвесок на летные характеристики самолета). На удар по отряду противника на открытой местности считалось необходимым отправлять два звена МиГ-21 с зарядкой ракетами типа С-5 на шести машинах и двумя бомбовыми кассетами с осколочным снаряжением на двух истребителях.  Обломки самолетов дежурного звена 927-го иап после душманского обстрела. Баграм, апрель 1984 года  Авария истребителя 927-го иап на посадке Если же целью выступала живая сила, находящаяся в ущелье, где применение реактивных снарядов было затруднено из-за сложности подходов, потребный наряд сил возрастал почти вдвое с соответствующим вооружением, включая шесть самолетов с ОФАБ-250-270 (по четыре бомбы на каждом) и четыре истребителя с зарядкой объемно-детонирующими бомбами ОДАБ-500, особо эффективными в горных теснинах. Налет истребителей 927-го иап составил 12 000 часов с выполнением примерно 10000 боевых вылетов. Средний налет на самолет равнялся 400 часам, на летчика приходилось от 250 до 400 часов. За время пребывания в Афганистане было израсходовано порядка 16000 авиабомб разных типов калибра 250 и 500 кг, 1800 реактивных снарядов С-24 и 250 000 патронов к пушкам ГШ-23. Особенно напряженными были майские дни 1984 года, когда в ходе проведения Панджшерской операции у некоторых летчиков налет составил до 70 часов за месяц с выполнением 150 боевых вылетов, что равнялось годичному налету дома. Об одном из боевых вылетов в Панджшере в канун операции рассказывал капитан Алексей Гордиюк: "В районе Чаугани большая колонна из Союза в направлении на Саланг только вошла в горы, где-то пару километров после равнины, и там была атакована "духами". Позже через разведчиков узнали про действовавшую банду в 160 стволов. Колонна классически была закупорена подбитым транспортом, горящим в голове и хвосте, горели машины и внутри цепочки. Пока мы из Баграма по вызову через ретранслятор Ан-26РТ (висевший в воздухе все светлое время каждый день) прилетели к горящей колонне на выручку, УКВ-связь с офицером-наводчиком в этой колонне была потеряна. К стыду наших командиров даже через 40 лет после Великой Отечественной войны она ничему никого не научила: у танкистов, и на БТР одна КВ-связь — у нас в авиации "для поддержки" наземных войск только УКВ-радиостанции. Огрызался выстрелами только танк (с высоты 3000 м огонь стрелкового оружия не просматривается), но было ясно — они там в "в мешке" долго не протянут и потери будут большие. Обстановку "наверху" сочли безвыходной: наводчика и связи ведь нет, и старший на борту Ан-26 категорически запретил нам "работу" и строго приказал командиру группы майору Глове следовать на аэродром. Тот начал возмущаться: наши погибают, вся колонна в дыму и "соблюдать " меры безопасности в данной ситуации как-то не к месту, надо хотя бы морально поддержать наших. Ему объяснили, что это приказ. Тогда после нескольких минут "невыполнения боевого приказа" Глова заявил для прокурора (на "антоне" эфир записывал магнитофон): всю ответственность беру на себя. Голос "сверху" умолк: вам виднее. Но нам с трех тысяч для ввода истребителя ничего кроме дыма и огня не видно! А взрывы бомб на склонах в ущелье могут накрыть и своих! И хочется помочь и колется без наводчика. На каждом из четырех самолетов висело по четыре штучки ОФАБ-250, хватало на два захода каждому. Сбросили часть в первом заходе. Первая пара сбросом наобум, наверное, только морально "встряхнула" нападавших. Внизу нас, наверное, услышали (не по гулу самолетов, а по взрывам бомб) только после второго захода. А в уцелевшем танке сидели толковые ребята и начали чаще "целеуказывать" стрельбой в одно место, чтоб до нас "дошло". И пока настала очередь крайнего в группе, то стало ясно куда теперь надо "клюнуть" наверняка и результативно. Отбомбившись, четверка МиГ-21бис уничтожила 80 духов из 160, шедших в Панджер на поддержку джихада. Оставшиеся в живых "передумали" и вернулись. Тем самым Глова, как отметил тогдашний командующий авиацией генерал Колодий, спас не только наших в колонне, но и воюющих в панджшерской операции. Так что обошлось без наказания за ослушание начальства. Через две недели генерал Колодий специально перед летным составом Баграма привел в пример решительные и единственно правильные действия в непростой критичной ситуации майора Гловы.  Летчики звена 927-го иап. Слева направо — начштаба эскадрильи майор В.А. Скворцов, замкомэска майор А.Н. Глова, заместитель командира полка майор Н.Г. Карев и командир звена майор В. В. Скворцов  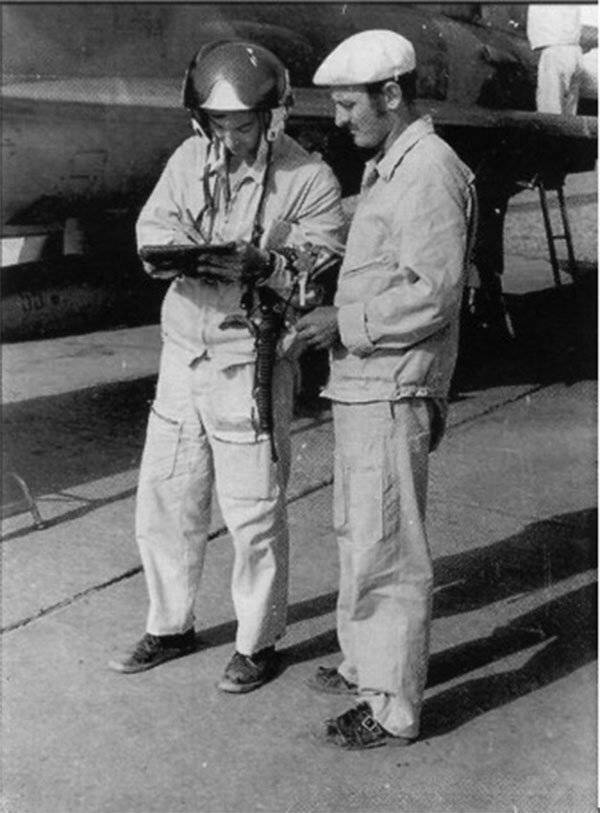 «Замечаний нет» - командир звена 927-го иап капитан В. И. Шульга расписывается после вылета  Летчики дежурного звена 927-го иап. Второй справа — комэск майор Альфред Кравченко. Шинданд, осень 1983 года Ввиду принимавшихся мер безопасности всего несколько раз самолеты возвращались с боевыми повреждениями. В одном таком случае пулей ДШК оказался пробит крыльевой топливный бак и лонжерон крыла, уже на излете пуля засела в силовой балке крыла. В противоположность, несколько случаев серьезных повреждений имели причинами собственные осколки и снаряды, являвшиеся куда более серьезным средством поражения, чем душманские автоматы. В одном из происшествий самолет в пикировании налетел на осколки разрыва снаряда С-24, один из которых весом с килограмм пробил конус воздухозаборника и застрял в антенне радиолокационного прицела. В марте 1984 года из-за дефекта техники был разбит МиГ-21бис. На самолете из-за дефицита запчастей поставили клапан воздушной системы с другой машины. Тот оказался нерабочим и в очередном вылете "травящий" воздух оставил систему без давления. При посадке самолета основная тормозная система не работала, отказал и выпуск тормозного парашюта. Истребитель пробежал всю ВПП, вылетел на грунт и, прорвав заграждение аэродрома, подломил переднюю стойку. Помятой оказалась носовая часть и свернут конус воздухозаборника. Летчик не поучил ни царапины, а самолет после необходимого ремонта вернулся в строй. Первой боевой потерей 927-го полка стал самолет начальника разведки полка майора Игоря Долгих. 29 октября 1983 года при атаке цели в провинции Бамиан в горном районе Бадахшана восьмерке МиГ-21бис, которую вел заместитель командира полка Николай Карев, пришлось действовать в крайне непростой обстановке. Атакуемая крепость лежала в ущелье с единственно возможным направлением захода, что позволяло противнику сосредоточить огонь по курсу ожидаемого подхода самолетов. Бомбометание выполняли штурмовыми бомбами ФАБ-500ШН, поскольку из-за трудностей с подвозом других на складе просто не было. Такие боеприпасы предусматривались для низковысотного бомбометания с горизонтального полета, однако по обстановке сбрасывать их требовалось в самых что ни на есть неподходящих режимах с крутого пикирования, которое сопровождалось изрядной просадкой самолета. Самолет Долгих был замыкающим в звене и попал под очередь ЗГУ. На выводе летчик услышал удар в хвостовой части машины, однако самолет слушался управления и смог перевалить через гору. Через минуты летчик обнаружил отказ гидросистемы и ухудшение управления, однако продолжал тянуть к аэродрому. На пути домой сопровождающие его летчики звена видели след керосина из пробитых баков, внезапно превратившийся в огненный шлейф длиной за 20 метров. Вот-вот мог последовать взрыв, и Долгих катапультировался уже в виду Баграма на удалении 30 км. Приземлившегося летчика прикрывала пушечным огнем группа, одновременно указывая трассерами место его нахождения спасателям. Вертолетчики быстро обнаружили следы пыли от рвущихся снарядов, "выхватив" летчика уже через 10 минут после приземления. Сам Долгих рассказывал: "После приземления отстегнул привязную систему, освободившись, огляделся и достал пистолет. Рядом был кишлак. Обернулся на шорох, увидел ползущего "духа", не целясь, выстрелил первым. Тот убежал — удачно, что он был безоружным. Только он был не один. Тут же послышались выстрелы из-за стены ближнего дома. В том направлении сделал несколько выстрелов. С пистолетом долго не продержаться, так что полез в НАЗ, достал автомат. Тут увидел, что к месту приземления бежит целая толпа вооруженных людей. Но в эти же минуты подоспели вертолеты, один с ходу сел. Вертолетчики тут же подхватили меня внутрь и пошли на взлет. Взлетали под обстрелом, в вертолете потом увидели несколько пробоин. Когда выгружались, меня сразу положили на принесенную дверь - вдруг поврежден позвоночник при катапультировании. Принесли спирта, чтоб снять стресс, ну и сами "причастились" за то, что всё обошлось. Потом госпиталь, и через три месяца снова летал. Чертеж А. Юргенсона МиГ-21бис  Командир отличного звена капитан П. Дьяченко принимает доклад техника отличного самолета В. Грушевого о готовности истребителя к полету  Подвеска зажигательных баков ЗБ-500 на самолете МиГ-21бис. Крайний слева — заместитель командира 927-го полка Н. Карев Незадолго до возвращения домой, 15 июня 1984 года, был потерян самолет капитана Алексея Гордиюка. Группа наносила удар по кишлаку всего в шести километрах от аэродрома. На выводе из пикирования истребитель потерял управление, начал вращаться и летчик катапультировался на высоте 1000 м при перевернутом положении самолета. После катапультирования на окраине селения его почти тут же подобрал вертолет сопровождавшей поисковой пары. Для летчика это был 193-й боевой вылет, из-за чего руководство считало вероятной причиной потерю им сознания на перегрузке в момент вывода "из-за большого физического и эмоционального истощения". Посланную в район удара "спарку" тут же обстреляли с земли, и она вернулась с пулевой пробоиной в подвесном баке. Опасность подстерегала самолеты и на земле. Несмотря на вертолетные дозоры и огромное количество мин, которыми были нашпигованы подходы к аэродромам, время от времени душманам удавалось накрыть самолетные стоянки минометным или ракетным огнем. Особенно страдала при этом авиация правительственных войск. Охрана у афганцев была поставлена крайне небрежно, и в Шинданде на земле моджахедам удалось уничтожить практически весь полк Ил-28. Доставалось и советским самолетам. В апреле 1984 года при ночном обстреле Баграма мина попала в один из МиГ-21бис дежурного звена 927-го иап. Из баков превратившегося в факел истребителя хлынул керосин, и пожар тут же охватил всю стоянку. Подбегавшие к пожарищу полуодетые летчики запускали двигатели машин и, не зажигая фар, в кромешной темноте пытались вывести их из огня. Самолеты вокруг спасла обваловка, в которой находились горящие истребители, но от всего звена остались лишь обгорелые хвосты, двигатели да прогоревшие стеклопластиковые конуса на бетоне. Для защиты аэродромов их наземную охрану усилили и довели до четырех батальонов, располагавших 50-70 бронемашинами. По периметру стоянок были оборудованы многочисленные посты и огневые точки, основой которых становились изувеченные в боях БТР и БМП, врытые в землю и заваленные металлоломом и камнями. Опробовали и систему предупреждения, прозванную "чертовым глазом", состоявшую из установленных вокруг аэродромов датчиков, реагирующих на тепло и металл (их сигнал означал приближение в ночной тьме людей с оружием).  Летчики 263-й разведэскадрильи после успешного боевого вылета. Слева направо: майоры А. Сысоев, В. Поборцев и О. Яассон. Август 1982 года МиГ-21 Алексея Гордиюка стал последней машиной этого типа, потерянной в Афганистане ровно за месяц до возвращения полка в Советский Союз. Сменяли их уже МиГ-23, однако некоторые из повоевавших "двадцать первых"все же снова оказывались в Афганистане - при переходе частей на новую технику дома их передавали афганцам для компенсации большой убыли техники в правительственной авиации. Помимо МиГ-21 истребительной авиации, в составе ВВС 40-й армии находились разведчики МиГ-21Р, служившие в 263-й отдельной эскадрилье тактической разведки. При вводе войск эта часть еще не была сформирована и в Афганистан направили одну из эскадрилий 87-го разведполка из Карши в Узбекистане с десятком самолетов. Разведчики базировались в Баграме. Впоследствии 263-я разведэскадрилья комплектовалась сменами из различных частей страны. Задачей разведчиков назначалось: - вскрытие районов сосредоточения мятежников и направлений перемещения отрядов оппозиции; - контроль состояния дорог на маршрутах передвижения войск; - наведение ударных групп авиации; - фотоконтроль результатов ударов; - нанесение ударов по вскрытым объектам с применением бортового оружия. Зафиксировать последствия атаки, не полагаясь только на эмоциональные доклады летчиков, требовалось по очевидным соображениям - ожившее пулеметное гнездо или уцелевший опорный пункт мог доставить серьезные неприятности и привести к ненужным жертвам, а то и поставить под угрозу дальнейшее выполнение задачи войск. Для дневной и ночной фотосъемки местности применялись МиГ-21Р, оснащенные подвесными контейнерами с набором разведывательного оборудования. Для ночной съемки применялись фотоаппараты с осветительными патронами. Выполнялась также разведка с помощью комплекта телевизионной аппаратуры, передававшей изображение снимаемой местности на наземный КП, что обеспечивало наглядность и оперативность передаваемой информации. В состав оборудования МиГ-21Р входил и магнитофон, на который летчик записывал "путевые впечатления" о замеченных объектах, их расположении и приметных ориентирах. За первый год войны разведчики эскадрильи выполнили более 2700 вылетов (в среднем, по 156 вылетов на экипаж). Помимо вылетов на аэрофотосъемку, МиГ-21Р привлекались для ведения радиотехнической разведки. Она осуществлялась средствами аппаратуры специального подвесного разведконтейнера, фиксировавшей местоположение и характеристики радиоизлучающих средств. Задачей являлось вскрытие состояния ПВО Пакистана в прилегающих к границе районах, откуда могло ожидаться противодействие зенитных средств и истребителей соседей. С января по декабрь 1980 года были выполнены свыше 600 вылетов на радиотехническую разведку, в результате которых были выявлены РЛС в целом ряде районов Пакистана, на его аэродромах и объектах ПВО. Разведывательные МиГи использовались при ночных ударах, подсвечивая район налета "люстрами" - осветительными авиабомбами САБ-100 и САБ-250. Они участвовали в атаках и поиске караванов с оружием, особенно по ночам, благо разведчики были в числе немногих, кому поручалась рискованная ночная работа в горах (если днем досмотр вели поисковые группы на вертолетах, то скрывавшийся в темноте караван вез явно не изюм, и его судьба решалась однозначно). Экипажи МиГ-21Р, лучше других знавшие, где искать цель, вели и "свободную охоту" - самостоятельный поиск и уничтожение противника. В этом случае они несли подвесные баки, две РБК-250-275 или две-четыре крупнокалиберных ракеты С-24. На МиГ-21Р эскадрилья пролетала до весны 1984 года, когда "двадцать первые" в ее составе сменили новые Су-17М3Р.  Летчики 263-й разведэскадрильи у своего МиГ-21Р. Кабул, 1982 год 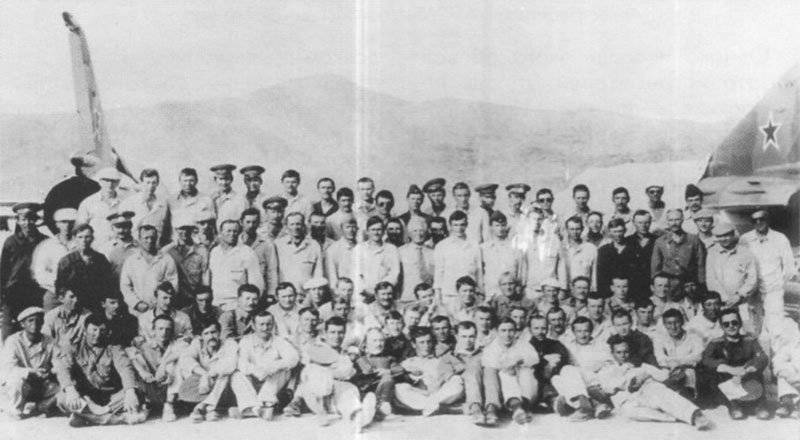 Личный состав 263-й разведэскадрильи С лета 1984 года МиГ-21 в авиации 40-й армии сменили более современные истребители МиГ-23. Однако и после этого заслуженный самолет не был отправлен в отставку и участие "двадцать первых" в афганской кампании продолжалось. 115-й гв. иап продолжал летать на МиГ-21бис до самого конца афганской войны, периодически привлекаясь к поддержке боевых действий в северных районах Афганистана уже со своего аэродрома. Полк к этому времени насчитывал в трех эскадрильях 32 боевых МиГ-21бис и восемь "спарок" МиГ-21УМ, представляя реальную силу, находившуюся буквальным образом под рукой. Кокайты располагались куда ближе к месту проведения операций, чем аэродромы базирования ВВС 40-й армии, а приграничные провинции "на той стороне" были отлично знакомы летчикам, из года в год работавшим в этих краях. Основные районы, куда приходилось совершать боевые вылеты, находились у Мазари-Шарифа, Кундуза, Талукана, Пули-Хумри и Файзабада. В обычных случаях МиГи могли появиться в нужном месте буквально через считанные минуты, однако некоторые вылеты приходилось выполнять на пределе досягаемости, используя подфюзеляжный подвесной бак ПТБ-800. Последней войсковой операцией с участием МиГ-21 из Кокайты стала Рамитская, проводившаяся войсками в районе одноименного ущелья в районе Айбак — Пули-Хумри в марте 1988 года. В последующее время с началом вывода войск боевые действия наземных частей были сведены к минимуму для сокращения потерь и осуществлялись лишь для сдерживания противника. Однако и после этого боевая работа истребителей отнюдь не прекратилась: летчики 115-го полка продолжали выполнять вылеты по знакомым районам, преследуя задачи "психологического воздействия" и демонстрируя готовность пресечь любые попытки активных действий противника. Налеты производились по данным разведки с бомбометанием по душманским лагерям в горах и опорным пунктам в селениях. Тогдашний командир 115-го иап полковник О.Н. Струков, на счету которого было 140 боевых вылетов со своего аэродрома, доходчиво характеризовал такие задачи: "Держать "духов" в черном теле и не давать поднять головы". Раз-два в неделю наносились бомбовые удары по намеченным объектам. Ближе к дате полного вывода войск интенсивность боевой работы возросла: бомбардировкам подвергались места, прилегающие к путям, по которым тянулись уходящие колонны. В осенние и зимние месяцы 1988-89 года, вплоть до середины февраля, летчикам приходилось выполнять по три-четыре вылета в день. Боевая зарядка МиГ-21бис составляла по две бомбы калибра 500 кг или четыре по 250 кг на самолет. Типы боеприпасов определялись боевой задачей, от фугасных, осколочно-фугасных, зажигательных и РБК при ударах по населенным пунктам и базам боевиков до бетонобойных и объемно-детонирующих бомб для поражения горных укрытий, укреплений и защищенных целей. Поскольку противник уже располагал современными средствами поражения, включая ПЗРК, принимались должные меры обеспечения безопасности. Не исключался радиоперехват, что вовсе не было преувеличением: иной раз приходилось слышать на рабочих частотах переговоры душманов. Команды в эфире могли выдать приближение ударной группы и стать предупреждением противнику. Радиообмен сводили к минимуму, обходясь парой фраз при выходе на эшелон и начале атаки, все остальное время в воздухе проводили в режиме радиомолчания. Другой непременным образом выполнявшейся мерой было отработанное построение атак: ввод в пикирование, обычно довольно крутое для повышения точности бомбометания, выполнялся с высоты 8000 м, за десяток секунд требовалось успеть произвести прицеливание и произвести бомбометание. Сброс бомб выполнялся с высоты порядка 5500 м с тем, чтобы на выводе высота составляла не менее 3000 м, за пределами досягаемости зенитных средств душманов. Продуманное построение атак позволяло избежать поражения и боевых повреждений. Попасть в стремительно несущийся вниз самолет на крутой траектории было практически невозможно. Всего за время участия в боевых действиях полк совершил почти 5000 боевых вылетов. 151 человек из состава части был удостоен орденов и медалей. Зимой 1989 года 115-й гв. иап перешел на новейшие истребители МиГ-29. 115-й гв. иап стал единственным во всей фронтовой авиации, удостоенным за участие в афганской кампании боевой награды - 11 марта 1981 года полк был награжден орденом Красного Знамени. МиТ-21бис из состава 115-го ГИАП, Кандагар, 1980 г МиГ-21бис из состава 115-го ГИАП, аэродром Джаркунган (Кокайты), 1985 г МиГ-21бис ВВС Афганистана Автор В. Марковский
|
|
|
|
|
#13 |
|
|
Истребители МиГ-23 В Афганистане
Первыми в Афганистан прибыли истребители МиГ-23 талды-курганского 905-го полка Афганская война стала наиболее масштабным вооруженным конфликтом с участием МиГ-23, однако в ВВС 40-й армии эти самолеты появились лишь через четыре года после ее начала. Поначалу предполагалось достаточным лишь участия сил ближайших военных округов — ТуркВО и САВО, ресурсами которых рассчитывали обойтись для выполнения казавшейся несложной задачи. Ко времени начала афганской кампании в строю истребительной авиации ВВС южных округов находились лишь МиГ-21 и только 905-й иап в Талды-Кургане начал освоение МиГ-23. «Двадцать третьи» имелись также в системе ПВО местной 12-й Отдельной Армии, однако та относилась к самостоятельному виду Вооруженных Сил и к формированию приданных ВВС 40-й армии для действий в Афганистане не привлекалась (впрочем, существовать ей в прежнем статусе оставалось недолго. В ходе начатой в январе 1980 г. реформы военной авиации все истребители ПВО были подчинены вновь образованным ВВС округов). Пополнение ВВС 40-й армии силами авиации южных округов продолжалось и в последующие годы. Даже когда их стали сменять привлекавшиеся из других частей страны полки и эскадрильи, истребители в Афганистане до 1984 г. были представлены исключительно самолетами МиГ-21бис. Хорошо освоенные и привычные в эксплуатации МиГ-21 отличались высокой надежностью, простотой и неприхотливостью в обслуживании и не сулили неприятных сюрпризов, которыми поначалу изобиловало использование МиГ-23, связанное с множеством ограничений и сопровождавшееся потоком отказов. Рисковать же простоем «ограниченно годных» истребителей на войне не хотели. Тем не менее, МиГ-23 появлялись над Афганистаном и в первые годы войны. Первый из эпизодов был связан с масштабной операцией в Рабати-Джали на юге страны в апреле 1982 г. В этом районе на самой границе с Ираном предстояло уничтожить крупную перевалочную базу душманов. Высаживавшийся в пустынном районе на значительном удалении от своих гарнизонов десант требовалось надежно прикрыть с воздуха, так как не исключалось противодействие иранской авиации. Дальности и продолжительности полета МиГ-21 для этого не хватало — от ближайших афганских аэродромов район отделяли 450-500 км. Расчистить дорогу армаде из 70 вертолетов с десантом предстояло эскадрилье Су-17М3, а для истребительного сопровождения и изоляции района с воздуха решили направить эскадрилью МиГ-23М. Однако афганский дебют МиГ-23, как и операция в целом, не заладились с самого начала. Поначалу планировалось задействовать истребители из дальневосточной Домбаровки, но подготовка там затянулась, и на выполнение задачи спешно перенацелили 152-й иап ВВС ТуркВО. Полк с 1976 г. летал на МиГ-23М и прежде подчинялся ПВО, однако с 1980 г. был передан во фронтовую авиацию ВВС округа. Для выполнения задачи были направлены два звена истребителей под началом майора И.А. Предикера. Ввиду рядового, в общем-то, задания и его краткосрочного характера какой-либо специальной подготовки не проводилось, и на место группа прибыла лишь накануне операции. Несмотря на участие в руководстве операцией высших офицеров ТуркВО и 40-й армии, находившихся в воздухе у Рабати-Джали на борту ВКП Ан-26 и Ан-30, планирование и организация операции оказались не очень удачными. Из-за ошибок с местоположением часть десанта оказалась высаженной на иранской территории, а большинству душманов удалось уйти из-под удара и вывезти запасы. Ожидавшие десантников на полевой площадке вертолеты дважды подвергались атаке иранских F-4E, повредивших и поджегших несколько Ми-8. Восьмерка МиГ-23М, базировавшаяся на аэродроме Шинданд, обеспечить качественное прикрытие так и не смогла. Из-за просчетов в планировании звенья истребителей сменяли друг друга со значительными зазорами, до 15-20 мин, чем и воспользовался противник. «Фантомы» даже вышли на перехват самолету Ан-30, с которого группой руководства велось наблюдение за ходом операции. По счастью, обошлось демонстрацией намерений: иранские истребители энергичными маневрами буквальным образом выдворили Ан-30 подальше от приграничной полосы и отошли за несколько минут до появления очередной группы МиГов. После не слишком впечатляющего дебюта МиГ-23 из Афганистана были отозваны.  МиГ-23МЛД из состава 190-го истребительного полка из Канатово  На счету этого самолета из канатовского полка было более 400 боевых вылетов Новая попытка использовать МиГ-23 последовала осенью 1983 г., когда истребители 735-го полка получили задачу отработать возможность применения МиГ-23 с афганских аэродромов. Еще недавно этот полк также находился в системе войск ПВО. Со сменой подчиненности на ВВС ТуркВО полк получил в 1980 г. МиГ-23М, ас 17 мая 1981 г. был переведен из истребительной авиации в состав ИБА и стал истребительно-бомбардировочным, одним из немногих в составе ИБА, летавшем на «двадцать третьих». Поначалу ограничились перелетами звеньев в Баграм и обратно, прокладывая маршрут и осваивая особенности взлета и посадки на высокогорных аэродромах. Вылеты производились без вооружения, а пребывание в Баграме ограничивалось заправкой перед обратным вылетом. Однако и эти мероприятия завершились неудачей: после нескольких «челночных» рейсов на одном из самолетов при запуске в Баграме отказал двигатель, вышедший из строя на достаточно «некомфортном» аэродроме, «заезженном» танками и тягачами, где песок и камни на стоянках и рулежках были обычным делом. Для замены новый двигатель и группу ремонта пришлось перебрасывать на Ил-76. Через неделю МиГ-23М вернулся в Союз, чем все дело и закончилось. Решение о замене истребителей МиГ-21 ВВС 40-й армии на более современные машины было принято к лету 1984 г. К этому времени вся авиагруппировка была перевооружена на новые типы самолетов, и лишь истребительная авиация продолжала работать на «двадцать первых». С нарастанием масштабов боевых действий все более очевидными становились их недостатки: небольшая боевая нагрузка, недостаточная дальность и продолжительность полета, слабое прицельное и, особенно, навигационное оборудование, из-за чего даже выход к удаленной цели был проблематичным. Все это не только ощутимо сказывалось на боевой эффективности, но и сужало круг возможных задач. В то же время МиГ-23, избавившись от «детских болезней», стал одной из основных машин фронтовой авиации и сменил «двадцать первые» в большинстве истребительных частей. Был накоплен достаточный опыт эксплуатации, выработаны методики боевого применения, и приход новых истребителей на смену был естественным. В Афганистан направлялись машины наиболее совершенной модификации МиГ-23МЛ, лишенные недостатков ранних моделей и заслужившие репутацию «настоящего истребителя» не только благодаря высокой тяговооруженности, легкости пилотирования, возросшей маневренности и дальности, но и достаточной надежности и приспособленности к обслуживанию (к этому времени эксплуатационные достоинства стали рассматриваться в числе важнейших). Особенно ценными на высокогорных аэродромах и в летнюю жару были хорошие взлетно-посадочные качества МиГ-23МЛ (его разбег в нормальных условиях был в полтора раза короче, чем у МиГ-21бис), что обеспечивало запас по топливу и боевой нагрузке. Дальность полета МиГ-23МЛ даже без дополнительных баков составляла 1450 км против 1150 км у МиГ-21бис. Стабилизацию самолета в полете обеспечивала система автоматического управления САУ-23АМ, выдерживавшая положение самолета по крену, тангажу и курсу, однако самолетовождение при полетах по маршруту оставалось задачей летчика, располагавшего картой и пилотажно-навигационными приборами. Использование РСБН существенно упростило навигацию (впрочем, ко времени появления первых 23-х на афганских аэродромах эта радионавигационная система только планировалась к развертыванию). При использовании в качестве истребителя МиГ-23МЛ обладал существенно лучшей боевой эффективностью, располагая современным комплексом прицельного оборудования. Прицельная система позволяла осуществлять перехват воздушных целей в различной обстановке: при сложных метеоусловиях, в радиоконтрастной облачности, а также на фоне земли, на встречных курсах и в задней полусфере. В отличие от «двадцать первого», арсенал которого составляли только ракеты ближнего боя, МиГ-23 обладал более мощным набором ракетного вооружения и мог вести воздушный бой с использованием ракет средней дальности Р-23 и Р-24 с досягаемостью до 35-50 км. Новое ракетное вооружение позволяло поражать самолеты противника, летящие с превышением или принижением относительно своего истребителя до 8000-10000 м, обладая высокой эффективностью в том числе и при атаке высокоманевренных воздушных целей (пуск ракет Р-24 и Р-60 обеспечивал поражение вражеского самолета при его маневрах с перегрузкой до «восьмерки»). Поскольку в афганской обстановке с воздушным противником приходилось иметь дело лишь изредка (такие случаи сводились к эпизодическим стычкам с истребителями соседних Ирана и Пакистана, о которых мы еще будем говорить подробнее), в первую очередь были востребованы ударные возможности самолета для использования по наземным целям. В роли ударной машины МиГ-23 мог нести до 2000 кг бомб калибром от 50 до 500 кг на подкрыльевых и подфюзеляжных держателях, в том числе до четырех «пятисоток» и зажигательных баков или 16 бомб стокилограммового калибра на балках многозамковых держателей. Набор вооружения дополняли блоки неуправляемых реактивных снарядов УБ-16-57 и УБ-32А, снаряжавшиеся всего 96 ракетами типа С-5, либо до четырех крупнокалиберных снарядов С-24. Однако прицельная система МиГ-23 была все же рассчитана в первую очередь на решение «истребительных» задач, и при работе по наземным целям обладала ограниченными возможностями: так, при бомбометании, стрельбе из пушки и пуске реактивных снарядов прицел использовался в качестве обычного коллиматорного визира, а расчетный угол пикирования и дальность выставлялись вручную.  Установка блоков БВП-50-60 с тепловыми ловушками но центроплане МиГ-23МЛД  Снаряжение кассет патронами с тепловыми ловушками ППИ-50 Большинство направлявшихся в ВВС 40-й армии истребителей прошло доработки по типу МЛД с улучшениями в части оборудования и маневренных качеств. Иногда обе модификации имелись в одной эскадрилье, что создавало проблемы летчикам из-за некоторых отличий в кабинном оборудовании. Перед посылкой в ДРА МиГ-23 (в том числе и «спарки») в обязательном порядке проходили оборудование блоками выброса помех ВП-50-60 для защиты от зенитных ракет — по четыре кассеты с патронами ИК-ловушек ЛО-43 или ЛО-51 на центроплане. Такой патрон калибром 50 мм почти килограммового веса был много эффективнее прежних небольших ловушек ППИ-26, использовавшихся на Су-17 и МиГ-21. Каждая килограммовая ловушка с термитным составом давала в течение 5—9 секунд яркий огненный шар с температурой до 2200°С, на который перенацеливались тепловые самонаводящиеся головки ракет. Патроны отстреливались сериями с заданным интервалом с нажатием на боевую кнопку при атаке, а также при взлете и посадке, когда самолет был ограничен в скорости и маневре, и пролете опасных районов, особенно на малых высотах. Помимо центропланных кассет на 60 патронов (отсюда и название — 60 «помех» с автоматом постановки АПП-50), ловушки размещались в доработанном пилоне подфюзеляжного бака ПТБ-800. В его переднем и заднем удлиненных обтекателях содержалось еще 16 патронов, направляющие которых монтировались с раствором в стороны от вертикали. Управление ими было выведено на кнопку «Сброс ПТБ», при первом нажатии на которую уходил бак, а повторное нажатие включало отстрел ловушек. Зарядки пилонных кассет хватало на 3—4 залпа, затем ввели автоматический отстрел и они стали уходить шлейфом по две с интервалом 0,2 сек. Недостатком конструкции было неудобное снаряжение очень тяжелого пилона, находившегося под брюхом самолета. Поначалу была непродуманной и блокировка пуска, не допускавшегося при выпущенном шасси, что однажды привело к отстрелу прямо сквозь висевший бак (к счастью, пустой), который ловушки прошили насквозь. Полной зарядки системы на испытаниях хватало на 7 атак. Проводилась также доработка системы запуска двигателя, повышавшая надежность работы в жару, и регулировка ограничений температуры газов за турбиной для увеличения тяги. Направление МиГ-23 в ВВС 40-й армии организовывалось по сложившейся в истребительной авиации схеме: чтобы не оголять полностью аэродром базирования, принимавший эстафету полк на год командировал две сборные эскадрильи, которые комплектовались наиболее опытными летчиками, обычно не ниже 1-го и 2-го классов (правда, и здесь бывало по-всякому — организация иной раз происходила с чисто военной внезапностью и на войну случалось отправляться даже только что выпущенным из училища первогодкам). Одна эскадрилья оставалась дома и числившиеся в ней молодые летчики продолжали заниматься боевой учебой, набираясь опыта. По очевидным причинам на это время полк, от которого на базе оставалась лишь треть состава, с боевого дежурства снимался. Отбывший в Афганистан полк, однако же, доводился до штатной трехэскадрильной комплектации. Дополнявшая полк до штатного состава третья эскадрилья, также на МиГ-23, привлекалась из другой части, находившейся подчас за много километров и в составе другого объединения. На месте она прикомандировывалась к основному составу, причем по истечении годичного срока ее сменяла эскадрилья оттуда же. Такая организация преследовала отнюдь не обеспечение принятой полковой структуры, но определялись условиями базирования: в Афганистане имелись всего три аэродрома, пригодных к базированию боевых самолетов — Баграм, Шинданд и Кандагар (и без того занятый международный аэропорт Кабула использовался лишь периодически), и на каждом из них размещалось по одной эскадрилье истребителей. Дислокация истребительной авиации на авиабазах обеспечивала не только равномерное распределение сил для контроля за окружающей территорией на востоке, западе и юге страны, но и прикрытие ДРА с угрожаемых направлений: истребители Баграма обеспечивали ПВО со стороны Пакистана, эскадрилья в Кандагаре — с юга страны, и эскадрилья в Шинданде — вдоль иранской границы. С этой целью в соответствии с Приказом Минобороны от 1982 г. и совместным Приказом Главкомов ПВО и ВВС от 1983 г. на афганских аэродромах было организовано боевое дежурство. На каждом из трех аэродромов для этих целей выделялось звено истребителей. Обычно два самолета из дежурного звена несли вооружение для перехвата воздушных целей, а два других — для атаки наземных объектов на случай экстренного вылета по вызову на поддержку своих войск. При необходимости осуществлялся маневр силами между аэродромами, и в нужном месте при проведении операции сосредотачивалось необходимое количество машин. Основной базой истребительной авиации служила хорошо оборудованная и обустроенная Баграмская авиабаза, наиболее близкая к штабу ВВС и руководству 40-й армии в Кабуле, откуда осуществлялось руководство и координация. В Баграме находились управление полка и ТЭЧ, куда для выполнения регламентных работ и ремонтов пригонялись истребители из Шинданда и Кандагара. Организация работы требовала слаженности не только разведывательного и оперативного отделов штаба; не менее хлопотным становилось обеспечение боеготовности техники инженерно-авиационной службой. Специалистам ИАС приходилось проявлять недюжинные организаторские способности не только при подготовке и ремонтах машин, но и в отношении планирования, ведь необходимые по регламенту и достаточно объемные 100- и 200-часовые работы на полусотне имевшихся истребителей при крайне высокой интенсивности боевой работы требовалось производить уже через пару месяцев службы на новом месте! По счастью, МиГ-23МЛ выгодно отличался удобством в обслуживании и прочими эксплуатационными качествами, включая достигнутую в этой модификации надежность агрегатов и систем (прежние исполнения «двадцать третьего» грешили по этой части и нужно отдать должное командованию, не торопившемуся с их направлением в действующую армию со вполне предвидимыми сложностями эксплуатации в напряженной боевой обстановке). В середине июля 1984 г. в Афганистан были переброшены МиГ-23МЛД из 905-го иап ВВС САВО из Талды-Кургана, которым командовал полковник Е. Передера. Полк, первым в южных округах получивший в 1979-1980 гг. машины этой модификации, имел достаточный опыт их эксплуатации. Две его эскадрильи разместили в Баграме и Шинданде. Третью, кандагарскую эскадрилью, составили 14 МиГ-23МЛ и МЛД, а также 2 МиГ-23УБ, привлеченные из 982-го иап ВВС ЗакВО из грузинского Вазиани. Ею командовал замкомандира полка подполковник Баранов (через полгода его сменил майор Ананьев). В отличие от сборной группы из Талды-Кургана, куда при сборах отбирали летчиков поопытнее, для вазианского подразделения не стали выбирать классных летчиков со всего полка. Торопясь с отправкой, исполнять интернациональный долг командировали штатную 2-ю эскадрилью, в которой среди 18 летчиков насчитывалось много лейтенантов и старших лейтенантов второго-третьего года службы. Тем не менее, именно им пришлось первыми попасть на войну, на месяц опередив соседей. МиГ-23 пришлось вступить в бой в самый тяжелый период войны. Масштабы и число операций в 1984 г. достигли максимума, под стать им были объемы и напряжение работы авиации. Только на летний период планировалось 22 армейских операции — почти вдвое больше, чем в предыдущем году, однако ситуация потребовала проведения 40-й армией еще 19 прежде не предусматривавшихся крупных оперативных мероприятий. Наиболее масштабными из них стали очередная Панджшерская и внеплановая Гератская операции, проводившиеся с привлечением беспрецедентных сил и средств. Год стал пиковым по числу погибших солдат и офицеров, в полтора раза подскочило и количество боевых потерь в ВВС, составив десяток боевых самолетов и более сорока вертолетов. Среди них, однако, не было ни одного МиГ-23, несмотря на их участие в крупных и сложных операциях. Само планировавшееся перебазирование пришлось на завершающий этап знаменитого «Большого Панджшера», в разгар которого проводить замену и перебрасывать новичков было нецелесообразно, да и некогда. К тому же «перенаселенный» привлеченными силами Баграм не имел свободных стоянок, работавшие с него самолеты и без того приходилось размещать вдоль рулежек и на спешно оборудованных металлических настилах. В итоге перелет 905-го иап пришлось отложить на полтора месяца, задержали и перебазирование 982-го полка в Кандагар (прежде на нем базировалось лишь звено истребителей). Только месяцем спустя, с середины июля, эскадрилья из Вазиани оказалась на новом месте. МиГ-23 из 982-го иап стали первыми истребителями этого типа в ВВС 40-й армии. На другой день прибыла и группа из Талды-Кургана. На 1984 г. пришлись также крупные операции под Кабулом — летняя, с 23 по 28 августа, и осенняя, с 23 сентября по 10 октября, в октябре проводились также боевые действия по разгрому душманской базы в Ургуне, а в декабре — в Луркохе в провинции Фарах. За зиму были проведены 10 плановых и 3 внеплановых операции. Соответственной была и нагрузка на авиацию: за 1984 г. расход авиабомб увеличился вдвое, достигнув 71000 штук против 35000 в предыдущем году, число снаряженных ракет возросло более чем в 2,5 раза и составило 925000 (в 1983 г. их израсходовали 381000).  Взлет истребителя с отстрелом тепловых ловушек Основными типами боеприпасов, применявшихся на МиГ-23, были авиабомбы, преимущественно фугасные калибров 250 и 500 кг разных типов и моделей, а также осколочно-фугасные ОФАБ-250-270 с осколочной «рубашкой», эффективные против большинства целей. Достоинством ОФАБ была их универсальность, позволявшая поражать как строения, служившие укрытием противнику, опорные пункты и защищенные огневые точки, для чего с лихвой хватало мощи фугасного удара, так и живую силу, выбивавшуюся ливнем смертоносных осколков. ОФАБ чаще других использовались при снаряжении самолетов, и их доля в числе прочих средств поражения была наибольшей. По скальным укрытиям, укреплениям и пещерам использовались толстостенные ФАБ-250ТС и ФАБ-500ТС. Такие бомбы имели прочный стальной литой корпус, обеспечивавший пробитие преград и каменных сводов с разрывом в толще убежища. Для ударов по живой силе в укрытиях, пещерах и дувалах и строениям в местах базирования банд и кишлаках в дело шли объемно-детонирующие ОДАБ-500П с жидким взрывчатым веществом, особенно эффективные в горных теснинах, где огненное облако их взрыва сохраняло ударную мощь и температуру, выжигая большой объем. Особый эффект давали разовые бомбовые кассеты полутонного и четвертьтонного калибра — РБК-250, РБК-250-275 и РБК-500, начинявшиеся мелкими осколочными бомбами, а также ШОАБ-0,5. Мелкие осколочные бомбы выполнялись из хрупкого сталистого чугуна, при разрыве легко коловшегося на массу убойных осколков. Наиболее «содержательно» выглядели полутонные РБК-500 ШОАБ-0,5 с небольшими сферическими бомбочками, содержавшими готовые поражающие элементы из сотен стальных шариков. Кассеты с ШОАБ вмещали 560-570 осколочных бомбочек, укладывавшихся в корпус кассеты буквально внасыпную (из-за чего и количество называлось с некоторым допуском — сколько уместилось). При сбросе содержимое кассеты выбрасывалось наружу вышибным зарядом, покрывая пространство до нескольких гектаров (действие РБК так и описывалось как «саморассеивающееся»). Вид авиабазы Баграм с воздуха Площадь поражения РБК зависела от высоты и скорости полета, задававшихся при выборе тактических приемов сообразно конкретной задаче и характеру цели, включая ее защищенность зенитными средствами. Сама тактика использования и рекомендации по бомбометанию РБК составлялись с таким расчетом, чтобы сброс с определенной высоты и при заданной скорости давал оптимальное накрытие с перекрывающимися зонами поражения отдельных разрывов, истребляя там все подчистую. Для представления о действенности такого удара можно привести цифру — разрыв одной только полукилограммовой шариковой бомбочки ШОАБ-0,5 гарантировал смертоносное поражение живой силы на площади 60 м2, умножаемой соответственно их числу в кассете. Так, при ударе с высоты 1000 при скорости 1100 км/ч РБК-500 накрывала смертоносными «шариками» зону сплошного поражения порядка 400-600 м. Насыщенность осколочного удара сплошь выкашивала даже растительность в «зеленке», оставляя лишь голые стволы вместо зарослей, укрывавших противника. Характер поражения РБК лишал противника одного из его основных преимуществ — умения быстро рассредоточиваться и прятаться, используя заросли «зеленых зон» и каменистой горной местности с массой естественных укрытий. Удар РБК накрывал обширный участок смертоносным градом огня и стали, что делало их особенно востребованными при ударах по площадным целям — душманским лагерям, базам и кишлакам, служившим прибежищем противнику. Хорошей эффективностью РБК обладали и при подавлении объектов ПВО противника: обычные бомбы «выбивали» зенитчиков лишь при прямом попадании, тогда как содержимое бомбовых кассет накрывало площадным ударом само месторасположение зенитных позиции, не оставляя там живого места и обеспечивая поражение конкретной цели. Использование боеприпасов, однако, не всегда было целевым и часто обусловливалось имевшимися под рукой типами. Отсутствие на складе наиболее подходящих боеприпасов никак не могло служить основанием для перерыва в боевой работе. Применялись термостойкие бомбы, предназначенные для сверхзвукового бомбометания, и штурмовые низковысотные, с которых снимали тормозную систему, а также осветительные, дымовые и даже фотографические с мощным зарядом пиротехнического состава, которые выступали в качестве зажигательных, если задерживался их подвоз. Необходимое замедление срабатывания при бомбометании с малых высот и с пикирования для безопасности при сбросе и уходе от собственных осколков устанавливалось с помощью взрывателей. Большое значение придавалось также простоте в использовании, подготовке и учету местных особенностей. По этой причине практически не применялись по назначению пушки и подвесные пушечные контейнеры, огонь из которых в горах, на каменистой местности и в «зеленой зоне» со множеством укрытий был не эффективен (хотя зарядка ГШ-23Л всегда была полной и многие летчики не отказывали себе в удовольствии полоснуть по цели на выходе из атаки сотней снарядов «для острастки»). С неохотой применяли «сотки», слишком слабые против большинства целей; считалось, что их использование — пустая трата ресурса и топлива и подвешивать их приходилось лишь при отсутствии более подходящих калибров. Ввиду невысокой эффективности «сотки» фугасного действия к этому времени уже сошли с вооружения, уступив более мощным калибрам, однако на снабжении оставались осколочные АО-50-100 и осколочно-фугасные ОФАБ-100 и ОФАБ-100-120, вполне удовлетворявшие решению ряда задач. В то же время ОФАБ-100 и ОФАБ-100-120 находили применение при минировании с воздуха, для чего бомбы снаряжались взрывателями с замедлением до нескольких суток. Такими бомбами-минами мог дополняться основной удар, после которого еще долго продолжали греметь взрывы, мешавшие душманам разбирать завалы и искать обходные пути в ущельях. Успех минирования зависел от числа бомб, «засевавших» тропы и горные проходы, для чего на МиГ-23МЛД «сотки» подвешивали на многозамковых держателях МБД2-67У, каждый из которых нес по четыре авиабомбы с общим числом до 16 бомб на подвеске. Истребитель мог нести до четырех МВД (вариант с 16 ОФАБ-100), но чаще подвешивали два МБД под крылом и еще пару бомб на подфюзеляжных узлах; в этом случае истребитель нес десять ОФАБ-100. Однако при использовании МБД с большим количеством боеприпасов изрядно возрастало сопротивление воздуха — такая подвеска являлась самой «ершистой» в этом отношении, почти вдвое увеличивая лобовое сопротивление. В результате возрастал расход топлива, истребитель ощутимо терял в летных качествах и маневренности, хуже управлялся, из-за чего подобные задачи доверялись лишь достаточно опытным летчикам. 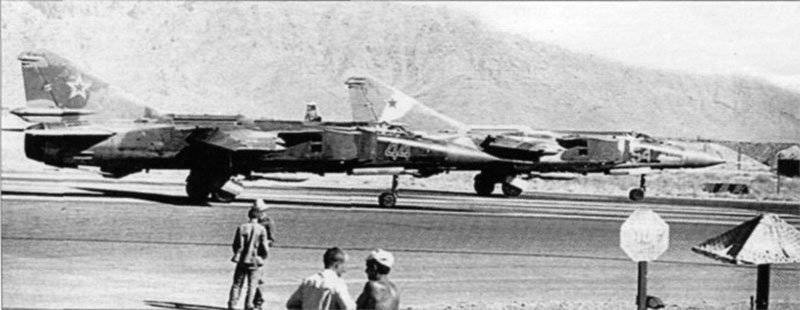 Пара Миг-23МЛД перед взлетом из Кандагара. Самолеты несут полуторатонную боевую нагрузку — по две ФАБ-500 под фюзеляжем и ФАБ-250 под крылом. Лето 1987 г Важную роль играло также производимое на противника впечатление при воздействии — как повелось на Востоке, эффективность обычно напрямую зависела от произведенного эффекта. По этой причине иной раз достаточным оказывалось нанесение демонстративного БШУ, заставлявшее моджахедов отступить. Удары внушительных «пятисоток» разваливали любой дувал и могли подавить даже хорошо защищенную огневую точку. Мощные взрывы вызывали обвалы со склонов и ливень отколовшихся острых осколков камней. Попадание РБК давало хорошо видимую с воздуха зону поражения - обширный пыльный эллипс, плотно засеянный разрывами осколочной «начинки». Вариант бомбовой загрузки всегда определялся балансом между желаемой эффективностью (для чего хотелось взять бомбовый груз побольше), удаленностью до цели (большая нагрузка сокращала дальность) и не менее важным влиянием загрузки и веса самолета на взлетно-посадочные качества. Последнее зачастую выступало определяющим фактором: перегруженность самолета в непростых условиях афганских аэродромов грозила затянутостью разбега и медленным набором высоты, что было небезопасным ввиду растущей опасности попадания под огонь душманских стрелков. Стремительный уход вверх сразу после отрыва стал правилом, будучи куда более предпочтительным, нежели «наскребание» высоты над кишащей противником «зеленкой». Угроза отнюдь не являлась преувеличенной — неоднократно самолеты получали пробоины прямо у аэродромов. Каждый 1% прибавки взлетной массы МиГ-23 сопровождался возрастанием длины разбега на 2,5%, соответственно, при максимальной нагрузке разбег возрастал на 45%. Взлет с максимальной бомбовой нагрузкой даже в нормальных условиях давал увеличение разбега примерно в полтора раза. Свою долю, и весьма изрядную, в ухудшение взлетно-посадочных характеристик вносило высокогорное расположение аэродромов и жаркий менее плотный воздух. При взлете из Баграма с его превышением в 1950 м длина разбега возрастала на 60% против нормальных условий. Каждый градус прибавки температуры воздуха против обычной еще на 1% увеличивал разбег. Сходным образом влияла температура и разреженность воздуха и на скороподъемность при выходе на безопасную высоту. Вместе взятые неблагоприятные факторы заставляли экономить единственным возможным образом — стараясь выдержать вес самолета приемлемым и выбирая боевую нагрузку в рациональных пределах. Обычная загрузка составляла пару авиабомб, реже — четыре (две «пятисотки» и две «четвертушки», но иногда и по четыре ФАБ-500, если цель лежала неподалеку и можно было сэкономить на заправке). Боевая нагрузка определялась еще и временем года — в летнюю жару недодавали тяги двигатели и разреженный воздух высокогорья хуже «держал» самолет на взлете. Другой, время от времени возникавшей причиной ограничений были трудности со снабжением боеприпасами, вынуждавшие снижать их количество на самолете (как-никак, каждую бомбу и снаряд требовалось доставить из Союза, переправляя за тысячи километров автоколоннами и транспортной авиацией). Оправдывающим обстоятельством при подвеске всего пары бомб выступало то, что эффективность при сбросе в одном заходе, ставшем правилом из соображений безопасности над прикрываемой зенитным огнем целью, определялась больше точностью этого удара, чем загрузкой самолета. На этот счет имелись конкретные указания, предписывавшие одним залпом «разгружаться» от подвесок, не рискуя попасть под ответный огонь в повторных заходах, и чересчур азартным нарушителям грозили взыскания. Пара бомб, точно уложенных в цель, справлялась с задачей никак не хуже, чем большее их количество. Большую часть боевых задач по данным 1985 г. составляли удары по заранее спланированным целям — лагерям, базам, складам и крепостям, которых истребители выполнили 20% от общего числа. Вылетов по вызову для уничтожения вновь обнаруженных объектов — огневых точек, засад, укрытий и караванов — истребители произвели 8%, основная их доля приходилась на вертолетчиков, лучше знавших местность и приспособленных для действий по точечным целям. Разведка целей силами истребительной авиации заняла 6% всего ее объема и производилась истребителями преимущественно в собственных интересах, для детального изучения района предстоящей работы, уточнения условий и доразведки перед ударом. Для нее часто привлекались «спарки» МиГ-23УБ в паре с боевым МиГ-23МЛД, в кабинах которых занимали место наиболее опытные летчики. Используя выгоды совместной работы в экипаже, наблюдатель в передней кабине «спарки» фиксировал обстановку внизу и вел ориентировку, намечая на карте пути захода и построения атаки. Часто МиГ-23УБ занимали место в боевых порядках, служа для целеуказания и контроля результатов. Их же использовала группа руководства, занимавшая высотный эшелон и наблюдавшая за ходом БШУ, сопровождая налет указаниями летчикам. Подобный надзор, понятным делом, не очень-то приветствовался летчиками, иронично звавшими парящий в высоте самолет с начальством «АВАКСом»1. Задача целеуказания при авиационной поддержке решалась с помощью авианаводчиков или во взаимодействии с вертолетчиками, обозначавшими объект пуском НАР или сбросом бомбы, по разрыву которой задавалось направление и расстояние до цели. Видимый даже с высоты пыльный гриб разрыва или шлейф дыма от дымовой авиабомбы самолета-лидера служил ориентиром, на который нацеливалась ударная группа. Особое значение четкое взаимодействие с наводчиком имело при поддержке своих частей — с обычных полетных эшелонов истребители не могли разглядеть малоразмерные цели. Задачу осложняла однообразная местность и велика была вероятность просто не найти противника, а то и риск отработать по своим. Несмотря на требование к пехоте при авиаподдержке обозначать себя дымовыми шашками и цветными сигнальными дымами, а летчикам при бомбометании не наносить удары ближе 2500 м от фронта своих войск, такие случаи бывали. Бомбометание всегда было прицельным. При облачности, закрывавшей цель, вылет отменялся. Группа выходила в заданный район колонной пар или звеньев, растягивалась, чтобы не стеснять друг друга, и в каждой паре ведомый слегка отставал от ведущего, обеспечивая свободу маневра. Сброс почти всегда выполнялся с пикирования, обычно с углом 45—60° или до отвесного, насколько позволяло мастерство летчика. В пикировании выполнением скольжения самолет точнее наводили на цель. Со временем, когда были подняты предельные нижние высоты полета по условиям досягаемости душманской ПВО, угол пикирования ограничивали 45°, иначе самолет разгонялся слишком быстро и не оставалось времени на прицеливание — через считанные секунды после ввода летчик уже должен был брать ручку на себя. Так как оборудование МиГ-23МЛД для работы по наземным целям было приспособлено минимально, многие летчики обходились без использования автоматики прицела АСП-17МЛ, вычислитель которого решал прицельную задачу в расчете на равнинную местность и давал в горах слишком много промахов. Сброс летчик выполнял преимущественно в ручном режиме, полагаясь на собственные навыки и опыт. Ввод в пикирование выполнялся, когда цель оказывалась под ПВД, а сброс — с задержкой до заданной высоты, по индивидуальным приметам и «чутью». Доля НАР в составе боевой нагрузки оставалась небольшой. Ракеты типов С-5 в блоках УБ-16-57 и УБ-32 и С-8 в блоках Б-8М, как и крупнокалиберные С-24, на истребителях выходили из употребления. Преимущественным образом это было обусловлено необходимостью их применения с небольших дистанций и высот, до 1200-1500 м, что было рискованно с усилением ПВО; другой причиной была сложность пилотирования МиГ-23 с блоками, после пуска остававшимися на подвеске и ощущавшимися как воздушные тормоза, делавшие самолет в самый критичный момент на выводе инертным в управлении и маневре. Несший «решето» блоков истребитель с задержкой выходил из пикирования, проседал и медленно набирал высоту, замедляя выполнение противозенитного маневра — особенности, которых не приносило использование бомб, их сброс тут же освобождал машину и ощущался летчиком как сигнал к выводу. Кроме того, снаряжение блоков требовало усилий на подготовку и зарядку сотен ракет, в то время как на первый план при растущих объемах боевой работы выступала быстрота и удобство подготовки и естественный выбор делался в пользу надежных и эффективных средств «быстрого приготовления» — авиабомб. Бомбы выгодно отличались простотой снаряжения самолета: достаточно было вскинуть бомбу на держатель, закрыть его замок и вкрутить взрыватель (не считая, правда, того обстоятельства, что иметь дело приходилось с чушкой в полтонны...). Их вал продолжал нарастать: в 1985 г. число израсходованных авиабомб возросло на четверть и достигло 890000, а НАР снизилось на 11%, составив 826000 штук. Истребительные задачи, ввиду отсутствия противника, сводились к сопровождению ударных групп при вылетах в приграничные районы и несению боевого дежурства в системе ПВО страны. В дежурные звенья выделялись самолеты с хорошо отлаженными и надежно работающими радиолокационными прицелами, остальные продолжали изо дня в день вылетать на удар. Из-за такого «разделения труда» самые «заслуженные» истребители, несшие на бортах отметки о 400-500 боевых вылетах, как раз не отличались полным отсутствием замечаний по части РЭО и РЛС. Для работы по наземным целям радиолокационный прицел «Сап-фир-23МЛА-2» не требовался, станцию даже не опробовали при подготовке истребителей, на прочие мелкие дефекты и отказы смотрели сквозь пальцы («лишь бы двигатель тянул, колеса крутились, да бомбы сходили»). То же относилось и к навигации — самолетовождение по большей части осуществлялось визуально, по карте и наземным ориентирам. В то же время наиболее «кондиционные» истребители оставались в дежурном звене, где работы было на порядок меньше — подмена отказавших машин, вылеты из резерва на сопровождение, разведку и другие будничные задачи для поддержания требуемого наряда сил. В ударных группах 3-4, а то и более вылетов на самолет и летчика за смену были нормой. После изматывающей «карусели» БШУ служба в дежурном звене выглядела отдыхом, и в него направлялись летчики для короткой передышки после каждодневного напряжения боевой работы. 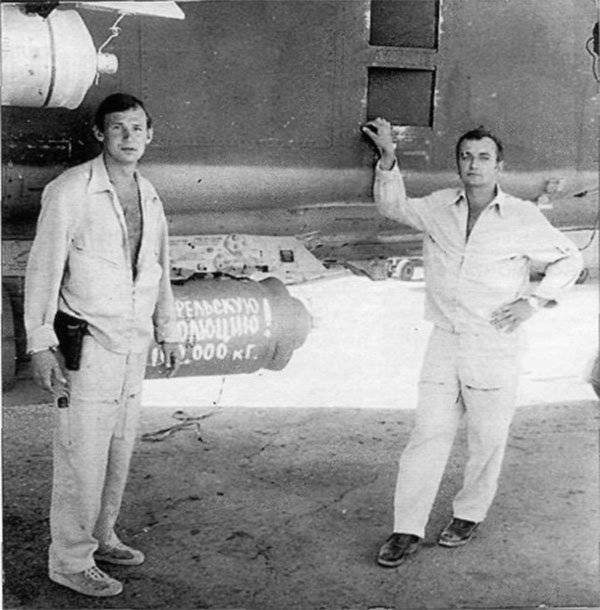 «За апрельскую революцию!» Фото на память о стотонном рубеже сброшенных бомб Неравномерным распределением боевой нагрузки, зависевшим также от различавшегося объема боевой работы на разных аэродромах, разного остатка ресурса на машинах в эскадрилье, от чего зависела активность их использования, и даже от позиции в плановой таблице (на задания чаще посылались первые по списку самолеты) объяснялись и существенные расхождения в налете отдельных истребителей. За 1985 г. при среднем налете 84 ч и 112 вылетов на один МиГ-23 максимальные значения на одном из истребителей в Баграме составляли 398 ч и 423 вылета — больше, чем на каком-либо Су-17 и Су-25! Среднее напряжение на летчика составляло 1,15 вылета в смену против 1,07 в штурмовой авиации и 0,86 в истребительно-бомбардировочной авиации, уступая лишь разведчикам, у которых нагрузка достигала 1,17 и вертолетчикам с полуторакратно большим числом вылетов, составлявшим 1,6 вылета в смену. После года пребывания в Афганистане 2-ю эскадрилью 982-го иап в Кандагаре в конце мая 1985 г. сменила 1-я эскадрилья того же полка под началом подполковника В.И. Новикова. На долю новичков пришлись первые боевые потери МиГ-23. Менее чем через месяц после прилета, 21 июня, с задания не вернулся МиГ-23МЛД лейтенанта Багамеда Юсуповича Багамедова, вылетевшего в составе пары на усиление удара шиндандской эскадрильи под Калат, в 120 км северо-восточнее Кандагара. Летчик, шедший замыкающим, погиб, а обстоятельства остались невыясненными — его потерю заметили только, когда вторая группа вышла из атаки и ложилась на обратный курс. В боевом порядке молодого и недостаточно опытного летчик, имевшего на счету всего десяток боевых вылетов, поставили замыкающим. По всей вероятности, заходя в атаку последним, он попал под усилившийся зенитный огонь. В тот крайне неудачный день потерей МиГа и его летчика жертвы не ограничились: поисковый вертолет, вылетевший на помощь, на подлете к месту падения истребителя попал под огонь ДШК и тоже был сбит. Летчик и штурман Ми-8 успели покинуть машину с парашютами, но борттехник погиб в вертолете. 8 августа разбился командир звена капитан Владимир Пивоваров. При выполнении БШУ в 90 км северо-западнее Кандагара его самолет нес два УБ-32 и два УБ-16-57. Никто в эскадрилье с такой подвеской в горах не летал, а комэск Леонид Ананьев однозначно оценивал ее, при невысокой эффективности, просто опасной. По всей видимости, летчика из состава той же эскадрильи также подвел малый боевой опыт (это был его 24-й вылет в Афганистане). После залпа ракет самолет Пивоварова, уже вышедший было из пикирования на высоте 1500 м, потерял скорость и, парашютируя, плашмя ударился о склон горы. Катапультироваться летчик не смог. Возможной причиной могло стать и попадание с земли — находившийся рядом Ми-8, снизившийся для поиска летчика, тут же попал под зенитный обстрел. Кандагарскую эскадрилью потери преследовали и дальше: 18 октября при взлете парой истребители столкнулись в воздухе. Летчику одного из них пришлось покинуть машину в 8 км от аэродрома, самолет другого сохранил управление, развернулся и выполнил посадку. Следующий случай произошел 8 февраля 1986 г. в Шинданде при посадке самолета подполковника Евсюкова. После разрушения колеса летчик не удержал свой МиГ-23МЛД на пробеге, самолет через 100 м после касания сошел с ВПП и налетел на строение. Машина серьезно пострадала, повредив консоли, шасси и фюзеляж, вырвало даже узлы крепления винтовых преобразователей поворота крыла. Этот самолет был восстановлен, хотя ремонт и преследовал обычную в таких случаях «бумажную» цель проведения случившегося в отчетности как исправимой поломки, а не аварии, сулившей много большие неприятности и для самого летчика, и для командиров. На боевые задания истребитель больше не летал. Обе эскадрильи 905-го иап до последних дней отработали без потерь (единственный самолет за весь год получил пулевую пробоину, замеченную уже на земле после возвращения, и еще одну «спарку» помяли при грубой посадке). Однако уже под конец пребывания при самом отлете домой была допущена ставшая роковой ошибка. В конце июля истребители шиндандской группы должны были покинуть Афганистан и вернуться на базу в Талды-Курган. Для дальнего перелета на самолеты подвесили по три бака ПТБ-800. Замыкающая пара из-за отказа турбостартера на самолете ведущего задержалась с отлетом. Ремонт потребовал времени и вылетать пришлось уже под вечер следующего дня, 23 июля 1985 г. Торопясь нагнать ушедший полк, вместо обычного взлета по безопасной схеме с набором высоты в охраняемой зоне, перегруженные ПТБ истребители взлетали по прямой. Не имея достаточной высоты, самолет ведомого вышел прямо на душманский пулемет. МиГ-23МЛД начштаба эскадрильи майора Виктора Чегодаева, имевшего более 200 боевых вылетов, был подбит ДШК. Летчик успел катапультироваться, но погиб из-за сложившегося купола парашюта. Говорили, что спастись ему помешала перебитая пулей лямка привязной системы парашюта.  Подвеска четырех бомб калибра 250 кг  Посадка МиГ-23МЛД с использованием тормозного парашюта, необходимого на высокорасположенном аэродром 1985 г. принес наибольшие потери МиГ-23: истребители лишились 5 машин, погибли 4 летчика. Баграмскую и шиндандскую зоны ответственности у талды-курганского полка с июля принял 655-й иап из прибалтийского Пярну. Уже под новый год, 27 декабря, погиб старший штурман 655-го иап подполковник Анатолий Левченко. Один из самых опытных летчиков полка имел к этому времени уже 20-летний стаж летной работы. К исполнению «интернационального долга» он привлекался еще в начале 1970-х гг., участвуя в составе советской истребительной авиагруппы в боевой работе в Египте. За предыдущие полгода Левченко успел выполнить 188 боевых вылетов, и в этот день уже дважды слетал на задание. Под вечер во главе звена он пошел на удар по цели в горах на подходах к Салангу. Обеспечивая работу группы, ему предстояло бомбовым ударом подавить зенитные средства противника. Место работы находилось всего в 27 км от Баграма. На 14-й минуте полета сразу после сброса бомб истребитель Левченко получил попадание ДШК. Ведомый наблюдал вспышки, прошедшие по кабине и фюзеляжу, после чего МиГ-23МЛД не вышел из пикирования и врезался в скалы. Подполковник А. Левченко правительственным Указом от 26 мая 1986 г. посмертно получил звание Героя Советского Союза, став единственным из истребителей за всю афганскую войну, удостоенным этой награды. Сам случай стал основой растиражированной истории о таране им зенитной позиции. Гибели летчика показалось пропагандистам недостаточно, и в прессе появились даже его предсмертные напутствия по радио товарищам и описания душманских потерь на месте тарана. В действительности летевший в паре с Левченко майор Алексей Щербак докладывал только о попадании в самолет ведущего и потере им управления (истребитель, вздрогнув, с высоты 1500 м перешел в почти отвесное пикирование), а в документах штаба ВВС ТуркВО говорилось: «Летчик убит в кабине самолета при обстреле ДШК». Обломки самолета в заснеженных горах отыскать не удалось. 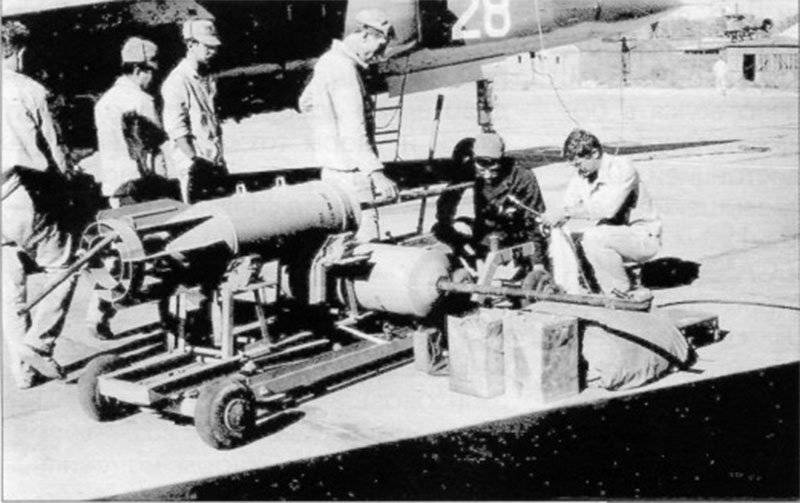 Подготовка осколочно-фугасных бомб ОФАБ-250-270  «Подарок духам» — фугасная бомба ФАБ-250М62 на подвеске МиГ-23МЛД  При задержке с подвозом в дело шли боеприпасы вспомогательного назначения — осветительные и дымовые, использовавшиеся в роли зажигательных 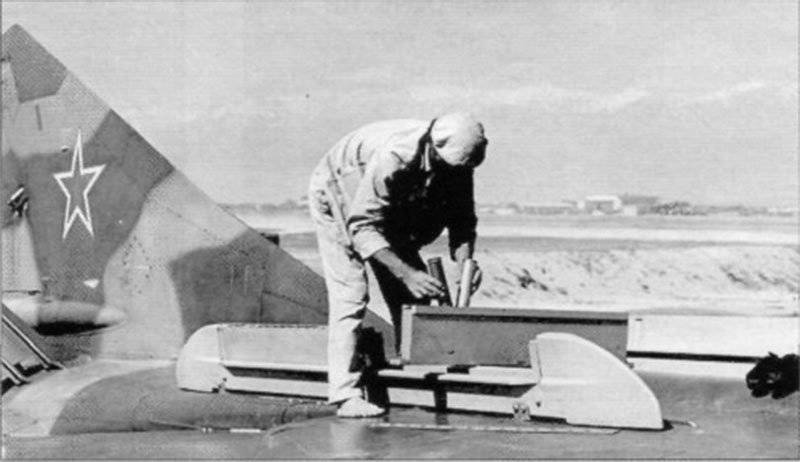 Зарядка кассет патронами ППИ-50 Угрожающий рост потерь вынудил принять меры по совершенствованию тактики и организации вылетов. Ситуацию существенно осложняло появление у противника ПЗРК, которыми быстро насыщалась душманская ПВО. Компактные и несложные в обращении «Стрелы» и «Ред Ай» (в этот период окольными путями в Афганистан попадали ПЗРК самых разных типов) не требовали оборудованных позиций, с легкостью скрытно доставлялись в любой район, могли применяться с машин и крыш городских зданий, и появлялись в засадах даже у границ аэродромов. С появлением осенью 1986 г. массово поставлявшихся американцами «Стингеров» досягаемость ПВО поднялась до 3500 м. Отражением ситуации стала динамика роста потерь от ПЗРК: после единичных фактов их применения в 1984 г., приведших к потере 5 самолетов и вертолетов, в 1985 г. были сбиты 7 самолетов, а в 1986 г. ПЗРК вышли на первое место по эффективности, поразив 23 машины. При этом поражение ракетой, самостоятельно наводившейся на цель и обладавшей мощной БЧ, практически всегда приводило к выводу из строя важнейших систем даже без прямого попадания — хватало близкого разрыва с мощным фугасным ударом и потоком осколков, результатом которого почти всегда была потеря самолета. Массовое использование ПЗРК с 1986 года придало противостоянию характер настоящей «борьбы за воздух». К числу обязательных относились взлет и посадка по «укороченной схеме» с набором высоты на форсаже по спирали, при котором самолет оставался в пределах патрулируемой зоны вокруг аэродрома до выхода на безопасный эшелон. Обязательным при этом, как и при посадке, был отстрел ИК-ловушек, без которых вылет не допускался. При заходе на посадку практиковалось снижение «с большим градиентом потери высоты» («посадка по градиенту»). По типовой схеме группа выходила на аэродром на высоте 3500 м с курсом, обратным посадочному и выполняла роспуск по дистанции для построения маневра. После выпуска закрылков, шасси и тормозных щитков истребитель сваливался в крутой нисходящий вираж, держа РУД на малом газу с таким расчетом, чтобы после половины витка нисходящей спирали оказаться строго в створе ВПП. Крен при этом достигал 90°, а в кабине даже приходилось отключать беспрерывно мерцавшую сигнализацию, предупреждавшую о недопустимости маневра на грани «управляемого падения». Ближний привод самолет проходил все еще на высоте 500 м и уже на выравнивании после стремительного снижения летчик увеличивал обороты до номинала, подтягивая двигателем. Уход на второй круг при промахе считался уже серьезной провинностью, подставлявшей самолет под вероятный огонь при наборе высоты, круге и новой посадке. Посадка эскадрильи по такой схеме выполнялась предельно сжатой по времени и занимала несколько минут, не давая возможному противнику времени на прицеливание. Подошедшая на высоте группа спустя 3-4 мин уже заруливала на стоянку. Впечатляющая методика была, однако, достаточно сложной и требовала отточенной техники пилотирования и владения машиной. Ее оборотной стороной неизбежно становился рост аварийности — летчикам, измотанным несколькими вылетами, нелегко было соблюсти все требования, вписываясь в тесные рамки выполнявшегося в хорошем темпе маневра под «нажимом» догонявших сзади, и промашки случались даже у опытных летчиков. Аварии и поломки при посадках составляли до половины всех потерь, будучи по числу сопоставимыми с боевыми потерями. Сложность посадки не позволяла использовать для этого САУ-23, хотя автоматизированный режим обычного захода до самого касания и был уже освоен в строю.  Подвеска пятисоткилограммовых бомб ФАБ-500М62 на истребителе МиГ-23МЛД Освоение схемы вошло в обязательный курс, который стали проходить направлявшиеся в ДРА летчики. Он включал три этапа: обучение на своих аэродромах объемом 35-40 ч, затем подготовка в горно-пустынных условиях на базе Мары-1, где осваивались особенности навигации, ориентировки и боевого применения, особенно с крутого пикирования, и ввод в строй на аэродромах ВВС 40-й армии. Программа не всегда выполнялась в полном объеме (иногда не позволяли сроки, иногда сократить курс позволяла классность летчика), однако наиболее существенной оставалась передача «живого опыта» заменяемой группой, летчики которой вывозили новичков по типовым маршрутам, указывая основные ориентиры и цели и делясь тонкостями и наработанными секретами боевой работы, которых было не прочесть в руководствах. Первый вылет выполнялся на «спарке» под наблюдением опытного «старожила», затем — в паре и составом смешанных звеньев и эскадрилий из обеих групп, причем навыки передавались обычно от летчика к летчику равного уровня (старший летчик, командир звена или комэска натаскивал новичка в той же должности). В просторечии курс освоения определялся коротко и ясно: «Водить за руку и тыкать носом в цели». Об использовании учебных боеприпасов, как это практиковалось дома, речь не шла — «учебных бомб у нас нет, а разбрасываться боевыми не годится, сразу привыкайте работать по реальным целям». При организации вылетов стали чаще использоваться смешанные авиагруппы, в которых истребители, штурмовики и вертолеты дополняли друг друга. В составе самих ударных групп выделялись, при необходимости, группы доразведки и целеуказания, по характерным ориентирам отыскивавшие цель и обозначавшие ее САБ или ДАБ, факелы и дымы которых со средних высот были видны с 10-15 км. Поиск обычно велся в боевом порядке пеленга с дистанции с дистанцией 600-800 м и превышением ведомого 100-150 м. Времени горения САБ и ДАБ (6-9 мин) хватало для подхода и обнаружения основной группой. Удар предваряла атака пары или звена подавления ПВО, использовавшей боеприпасы, дававшие площадное накрытие — НАР и РБК. Цель они обрабатывали на скорости поодиночно или парами, заходя с разных направлений. БШУ ударной группы производился с использованием разнообразных тактических приемов — «вертушкой» («ромашкой») с круга, заходы с которого чередовались с разных направлений, давая непрерывное воздействие на цель, «гребешком», когда самолеты из походной колонны один за одним последовательно доворачивали на объект атаки и удары также обрушивались с разных азимутов, «тюльпана» и «колокола» с более сложными пространственными маневрами, обеспечивавшими, с учетом местности и характера цели, ту же задачу — массированное воздействие на противника, не дававшее поднять головы, дезорганизовавшее возможный ответный огонь и рассредоточивавшее внимание зенитчиков. Удары наносились с минимальными «зазорами» в секунды, по условиям безопасности от разлета осколков бомб предыдущего самолета. Повторные атаки всегда предписывалось выполнять с другого направления, строя маневр на высотах 2000-2500 м. В смешанных группах скоростные истребители обычно наносили первый удар, после чего за цель принимались штурмовики, добивавшие ее методичными атаками, ракетным и пушечным огнем.  Техники развозят осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-250-270 по самолетам  Подготовленные к подвеске бомбы ОФАБ-250-270 Перерыв между вылетами. Летчики получают новую задачу, а техники готовят машины и в ожидании повторного вылета остаются при самолетах  Стоянка МиГов под охраной пулемета ДШК. Позиция прикрыта от обстрела всяким подручным материалом — патронными коробками и ящиками, набитыми песком 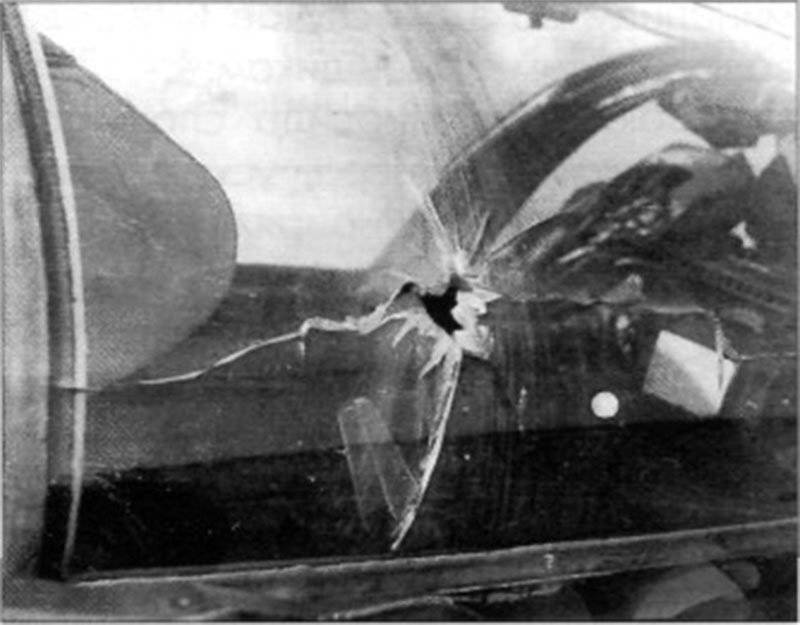 Пулевая пробоина от душманского «бура» в фонаре самолета капитана Рубеля Все более частое появление ПЗРК и изобретательность в их применении стали «выживать» самолеты на высоту. В 1986 г. вошло в силу правило не снижаться при атаке менее чем до 3500 м, ставшее границей выхода из пикирования «по Стингерам». Позднее из предосторожности нижнюю границу подняли еще на тысячу метров, установив равной 4500 м. Высота ввода при этом также поднялась, и маневр приходилось начинать с высот порядка 8500— 9000 м. Естественным образом, с такой высоты проблематичным стало само отыскание целей и построение прицельного удара, что сказывалось на результативности бомбометания. Тактические приемы при работе с больших высот утратили актуальность, уступив практически единственному способу — бомбометанию с пикирования с последовательным заходом самолетов группы на цель, выполнявшемуся с возможно меньшими интервалами для плотности воздействия. Боевой порядок обычно представлял собой колонну пар. Если объект был размерным, типа базы, района сосредоточения или опорного пункта душманов (в роли которых обычно выступал неприятельский кишлак), то удар наносился поочередным бомбометанием пар: первая атаковала ближний край цели, затем следующая целилась по разрывам и поднявшимся облакам пыли, смещая места падения бомб чуть дальше и так далее, добиваясь накрытия всего объекта. Поскольку с уходом на высоту точность снизилась, обострился вопрос эффективности. Единственным выходом становилось все большее массирование налетов, компенсировавшее недостатки ростом числа самолето-вылетов и тоннажем сброшенных бомб. Для уничтожения типовых целей определялись следующие наряды сил: на крепость — восемь МиГ-23 с двумя бомбами ФАБ-500 на каждом и два самолета с двумя реактивными снарядами С-24 на каждом, на отдельный дом — звено с четырьмя блоками Б-8 на каждом (320 ракет) и звено с С-24, и даже на огневую точку в ущелье — шестерку МиГ-23 с четырьмя Б-8 или восьмерку с С-24. Чтобы поразить с заданных высот мост, считалось необходимым послать минимум шесть МиГ-23 с подвеской пары «пятисоток» на каждом. Заметным недостатком наставления был тот факт, что при установленных высотах боевого применения часть его рекомендаций была попросту невыполнимой — с оговоренных высот блоки и реактивные снаряды были уже неприменимы. Назначаемые вышестоящими штабами запреты и ими же предлагаемые установки, как водится, иной раз противоречили друг другу. При очередной замене в августе 1986 г. в Баграме и Шинданде появились МиГ-23 из состава 190-го иап под началом полковника Леонида Фурсы, прибывшие из Канатово под Кировоградом. В Кандагар на усиление перелетела эскадрилья 976-го иап из белорусского Щучина.  Посадка по «крутой глиссаде»: истребитель выравнивается над торцом полосы, гася скорость 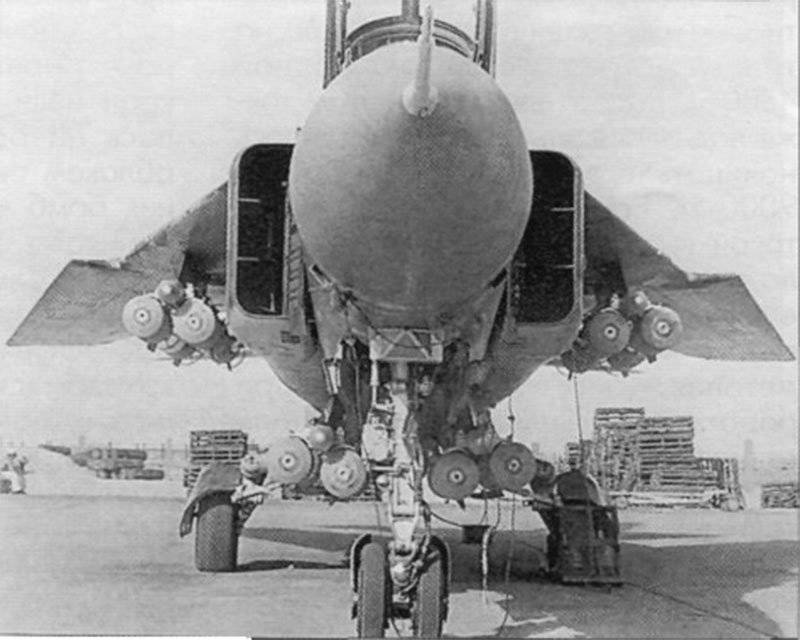 Принятые меры предосторожности дали результаты: за весь 1986 г. от огня противника не был потерян ни один МиГ-23. Свою роль играло и массовое использование ИК-ловушек, расход которых достигал внушительных цифр: в 1985 г. — 2555 тыс. штук, в 1986 г. — 4745 тыс. и в 1987 г. — 6825 тыс. В итоге за весь период 1984—1987 гг. не было зафиксировано ни одного случая поражения МиГ-23 ПЗРК при отстреле ловушек и лишь единственный случай повреждения осколками близкого разрыва самолета, на котором кончился запас ИК-патронов. Тем не менее «воевать по правилам» удавалось не всегда. Ограничения часто нарушались летчиками, стремившимися точнее уложить бомбы, столь же регулярно следовали взыскания и сохранялось противоречие между безопасностью и эффективностью, особенно при авиаподдержке, когда требовалось выбивать точечные цели. За первое полугодие 1987 г. истребители ВВС 40-й армии приняли участие в девяти крупных операциях: под Кандагаром в феврале-марте, у Газни и в центральных провинциях в марте, под Кабулом и Суруби в апреле, на востоке от Кабула в мае, в зеленой зоне Аргандаб и других. Боевая работа обошлась без потерь, однако в одном из тренировочных полетов имел место уникальный случай. Фонарь МиГ-23МЛД майора Вячеслава Рубеля, отрабатывавшего пилотаж у аэродрома, пробила пуля «бура», расколовшая светофильтр его защитного шлема. Чудом избежавший гибели летчик посадил самолет, а его ЗШ-5 остался напоминанием об этом случае и передавался другим заменщикам. Свою долю вносила сложность посадочного маневра, усугублявшаяся усталостью и напряжением. 23 февраля 1987 г. был разбит МиГ-23МЛД капитана Сергея Мединского. Сам летчик так описывал случившееся: «Полет до цели — без каких либо эксцессов. В момент вывода сильно провалился и отстал от Толика Большакова. Догонял на полуфорсаже 3 минуты, не догнал. Заметил, что топлива осталось мало — 700 л. Замандражировал немного, когда до аэродрома 100 км, а остаток — 400 л. Запросился с рубежа. Сначала не разрешили, но я по нахалке вклинился в группу Су-25. Скорость разогнал приличную. Впервые в жизни «скозлил». Самолет начал скакать, я растерялся, даже не сразу смог найти кнопку выпуска тормозного парашюта. Когда подломилась передняя стойка, я выпустил парашют. Самолет восстановлению не подлежит...» Показательно, что сама по себе авария не говорила о плохой выучке молодого летчика — он продолжал летать и вскоре был отмечен вместе с ведущим Анатолием Большаковым как «лучшая боевая пара». Впрочем, через считанные дни в полку стало не до разбирательств — за месяц с небольшим были потеряны два истребителя. 10 марта при БШУ в 50 км от Суруби на самолете начштаба эскадрильи Вячеслава Голубева после залпа из УБ-32 произошел помпаж и отказ двигателя. Запустить его не удалось, летчик катапультировался, получил ранение при приземлении на скалы и вскоре был подобран ПСС. При попытке забрать на месте падения бортовой самописец САРПП поисковая группа наткнулась на засаду и в ней был убит офицер военной разведки. 16 апреля группа истребителей 190-го полка вылетела под Хост для бомбардировки укрепрайона Джавара. Взятие с боями ровно год назад душманской базы было объявлено Кабулом большой победой, однако, стоило правительственным войскам покинуть опустошенный лагерь, как в него вернулись моджахеды. Спустя считанные недели база возобновила свою деятельность, служа опорой окрестным душманским формированиям и перевалочным пунктом для доставки оружия. Афганская армия в здешней провинции Нангархар и без того находилась в крайне скованном положении, будучи блокированной и отрезанной от снабжения (его осуществляли большей частью по воздуху). В этих местах центральной властью, по сути, удерживался лишь сам Хост, а граница совершенно не контролировалась. Поступление оружия и действия противника оставались безнаказанными и лишь налеты авиации служили им острасткой. При выполнении БШУ ведущий восьмерки полковник Леонид Фурса снизился в поисках цели и на высоте 2000 м получил попадание в двигатель. Двигатель загорелся, сопровождавшие ведомые наблюдали шлейф огня и копоти. Поначалу летчик все же надеялся дотянуть до аэродрома. Он успел перевести крыло в положение минимальной стреловидности, прибавляя ему несущих качеств, но тут двигатель стал давать перебои. Еще минуту летчик продолжал тянуть в пустыню, подальше от вражеских позиций, и над ней покинул готовый взорваться самолет. Над местом его приземления, охраняя командира, встали в круг летчики его звена — замполит полка подполковник А. Оспищев, майор В. Недбальский и капитан В. Тур. Они прикрывали командира полка до прибытия вертолетов поисковой группы. При приземлении Фурса получил травмы, попал в госпиталь и в Афганистане больше не летал. Он был сбит при своем 388-м боевом вылете. Относительно обстоятельств случившегося имела место версия о пакистанских истребителях, как виновниках происшествия. Утверждалось, что именно F-16 неожиданно атаковали группу МиГов и сбили самолет ведущего ракетами с большой дистанции. Однако никто из членов группы в тот раз пакистанцев не наблюдал. Такая же обстановка фигурировала и в официальном донесении, где говорилось о поражении самолета огнем ДШК при опасно малой высоте полета. Тем не менее, встреча с пакистанскими истребителями не заставила себя долго ждать, случившись всего парой недель спустя. После того, как в апреле 1987 г. был сбит командир 190-го иап, командование полком принял начштаба подполковник Александр Почиталкин, при всей загруженности в группе руководства отличившийся рекордным среди истребителей налетом — к концу командировки на его счету было 563 боевых вылета! Именно Почиталкин вел группу в тот день, когда произошла первая стычка советских летчиков с пакистанскими истребителями. К этому времени две эскадрильи пакистанских ВВС получили F-16 и, освоив современные истребители, начали предпринимать активные действия на границе. Возникшая опасность заставила усилить прикрытие ударных групп. При работе в приграничных районах в сопровождение в обязательном порядке посылалась пара или звено МиГ-23МЛД с ПТБ-800. Истребители несли по две ракеты Р-24Р и две Р-60, сочетая вооружение для дальнего и ближнего маневренного боя. Помимо ракет, в обязательном порядке снаряжался полный боекомплект к пушке. Прикрытие осуществлялось методом заслона в воздухе с дежурством в зонах на наиболее вероятных направлениях атаки противника. Поиск воздушного противника велся самостоятельно с помощью теплопеленгатора и радиолокационного прицела, так как от обзорных РЛС авиабаз районы работы обычно были затенены горами. Подобную автономную методику прозвали «сам себе АВАКС». Обзорно-прицельная система использовалась в режиме «ГОР», дававшей обнаружение цели при патрулировании на небольшой высоте над вершинами в 25-27 км; при увеличении высоты барражирования находившиеся ниже цели обнаруживались в 18-20 км и захватывались с 14-16 км. Все же пакистанские летчики, используя действительные и мнимые случаи нарушения границы, стремились реализовать тактические преимущества «игры на своем поле» — хорошее знание местности, близость своих аэродромов, РЛС и постов наблюдения, а при необходимости и поддержку дежурившими в готовности перехватчиками. После ряда удачных перехватов пакистанцы почувствовали превосходство и без стеснения начали залетать на афганскую сторону. Были ли такие случаи навигационными ошибками, следствием безнаказанности, азартом охоты, вызовом или открытой поддержкой моджахедов, сказать трудно. Но с весны 1987 г. они стали множиться. Командующий ВВС и ПВО ДРА генерал-лейтенант Абдул Кадыр сообщал, что всего за 1987 г. были зафиксированы 30 случаев нарушения пакистанцами воздушной границы, подтверждением чего демонстрировалась найденная 23 апреля на поле в уезде Тани неразорвавшаяся ракета «Сайдвиндер». В течение весенних месяцев у Хоста пакистанцы сбили несколько самолетов и вертолетов правительственной авиации ДРА, по большей части, транспортников с грузами для осажденного Хоста. Но и для летчиков «шахинов» и «грифонов», как назывались пакистанские авиакрылья, залеты в афганское воздушное пространство грозили самыми неприятными сюрпризами. В открытую советские летчики встретились с пакистанцами 29 апреля 1987 г. Выполняя полковые вылеты по душманским базам в районе Джавары, звену МиГов предстояло провести бомбометание осколочно-фугасными «сотками» по горным проходам. С центральными провинциями Джавару связывало несколько ущелий, которые, как и сам район, периодически подвергались бомбовым ударам. Вот и накануне авиация 40-й армии снова обрабатывала горные проходы, чтобы завалить их битым камнем. Вылетевшей из Баграма четверке МиГ-23МЛД предстояло окончательно «запечатать» наиболее вероятные пути передвижения моджахедов, блокируя душманские сообщения. Каждая машина несла по 16 бомб на многозамковых держателях. Для блокирования душманских сообщений бомбы готовились на минирование и снаряжались взрывателями, установленными на временное срабатывание от нескольких часов до шести суток. Громыхавшие тут и там взрывы делали местность опасной для противника, сковывая противника. Зная о возможном противодействии душманской ПВО, вылет спланировали с привлечением прикрытия, которое обеспечивала пара истребителей майора Недбальского. Удар предстояло сопроводить выполнением противозенитного маневра. Профиль полета предполагал выход в район Джавары на высоте 8000 м, доворот к намеченному квадрату, снижение до 4000 м и бомбометание с кабрирования, в отличие от обычно практиковавшегося пикирования. При этом разлетающиеся бомбы-мины накрыли бы большую площадь, а самолеты остались вне зоны досягаемости зенитного огня. На выходе из атаки следовал противозенитный маневр: подскок до 7000 м с энергичным отворотом на 90-100°.  Двухместные «спарки» использовались не только для тренировочных задач, но и вывозных полетов в район будущих ударов, разведки и целеуказания ударной группе  Миг-23МЛД из состава 1-й эскадрильи 120-го иап на стоянке Баграмской базы Чтобы избежать перехвата, решили идти по дуге подальше от пакистанской границы. Несмотря на почти сплошную облачность, затруднявшую точное следование по маршруту, опытный командир уверенно вывел свою группу в назначенный район, где ему удалось заметить в «окне» поселок Тани к югу от Хоста и сориентироваться перед ударом. Трое ведомых неотрывно следовали за ним и по команде тут же сомкнули строй, выходя на боевой курс. В это время в наушниках стала попискивать «Береза» — где-то неподалеку находился воздушный противник. Но сейчас было не до него. МиГи нырнули вниз, проскользнув над близким хребтом, и слитно потянулись в крутой набор высоты. С нажатием на боевую кнопку самолет ведущего пробрало крупной протяжной дрожью, словно он попал на стиральную доску — это посыпались бомбы. Залпом избавились от бомб и остальные самолеты. Разгрузившись, истребители стали круто набирать высоту. Все той же плотной группой МиГи выполнили боевой разворот, «загнув крючок» влево и вверх. Выскочив маневром на 6500 м, ведущий группы обернулся и огляделся вокруг — не отстал ли кто. Внизу он увидел догоняющий группу пылающий факел. Тут же от пылающего самолета рванулась в сторону темная точка — сработала катапульта, и в небе раскрылся купол парашюта. Решив, что это кто-то из своих, Почиталкин развернулся и запросил ведомых. Все быстро доложили, что целы. Почиталкин сообщил на базу, что видит неизвестный горящий самолет, а шедший замыкающим начальник разведки полка майор А. Осипенко подтвердил доклад. Затем командир довернул в сторону факела, и тут все летчики группы увидели, как из обложной облачности в 2000 м ниже выскакивает второй чужак — серо-голубой F-16. Он делает вираж вокруг горящего напарника и, включив форсаж, со стороны похожий на загоревшуюся спичку, уходит с набором в сторону Пакистана. На обратном пути эфир взорвался вопросами о том, что произошло, кто сбит и как. После посадки Почиталкин доложил, что его звено было атаковано парой пакистанских F-16 и один из них упал под Хостом. Его слова через несколько дней подтвердил генерал-майор Иармохаммад из афганской госбезопасности. По сведениям его агентов, летчику F-16 удалось спастись, он приземлился в контролируемом моджахедами районе и той же ночью был доставлен в Пакистан. На поиски упавшего F-16 направили пару МиГов, с подвесками ПТБ и ракетами на случай новой стычки, и те несколько дней ходили у границы. Найти обломки в сплошной череде скал и ущелий было непросто, к тому же информаторы-афганцы сообщили, что обломки самолета вскоре после происшествия также были вывезены в Пакистан. При разборе случившегося встал вопрос: как был сбит F-16, ведь ракет МиГ-23 не несли. Официальная комиссия рассматривала три версии. Первая, признанная наиболее вероятной: F-16 наткнулся на веер бомб, разлетавшихся после сброса по баллистической траектории. Восстановленная на картах прокладка курса F-16 показала, что они, вероятно, маскируясь за горами, шли от аэродрома Мирамшах и рассчитывали перехватить МиГи в самый удобный момент, когда те отбомбятся и будут выходить из пикирования. Неожиданный маневр советских истребителей с резким снижением перед атакой и кабрированием обманул пакистанских летчиков: F-16 проскочили вперед и попали под сыплющиеся бомбы, а удара «сотки» хватило даже без взрыва (блокировка взрывателя при установке на минирование окончательно снималась только после падения). Вторая версия: F-16 попытался уклониться от вынырнувшего прямо перед ним кабрирующего звена, заложил резкий отворот и развалился в воздухе из-за превышения допустимой перегрузки. Это, однако, маловероятно. Сломать F-16 не позволила бы электродистанционная система управления, имеющая ограничения по даче ручки («защита от дурака»). И, наконец, третья версия: ведущего мог сбить его ведомый. Перехватывая советские самолеты, пакистанцы взяли их на сопровождение РЛС и вели, ожидая выхода на рубеж атаки. Но МиГи после сброса, не растягиваясь, выполнили противозенитный маневр, служащий и для уклонения от ракет истребителей. F-16 пришлось поворачивать за уходящей целью, и тут у ведомого, решившего, что они обнаружены, могли не выдержать нервы. Пущенная им в спешке ракета и попала в ведущего (такой случай был на слуху и произошел двумя годами раньше, в апреле 1984 г., в одном из полков, в ходе учений, когда при перехвате мишеней замполит эскадрильи сбил собственного комэска). Причиной нервозности летчиков F-16 могло стать присутствие над местом встречи пары сопровождения майора В. Недбальского. Находясь но большой высоте и не видя в плотном «сложняке» даже прикрываемой группы, она могла спугнуть пакистанцев работой своих РЛС. Тем самым «прикрышка» Недбальского, пусть даже имея слишком мало времени для перехвата противника, свое дело все же сделала. Произошедшее списали на действия афганской ПВО. Об участии авиации советского контингента в боевых действиях тогда говорить считалось недопустимым, и на этот счет играли в полную молчанку. Если верить тогдашней отечественной прессе и телевидению, то моджахедам противостояли исключительно части правительственных вооруженных сил. Относительно случившегося ТАСС сообщал: «29 апреля два истребителя-бомбардировщика ВВС Пакистана F-16 вторглись в воздушное пространство Афганистана в районе провинции Пактия. На предупредительные сигналы наземных средств ПВО и ВВС ДРА самолеты не отвечали и продолжали провокационный полет. Средства ПВО ДРА сбили одного из воздушных пиратов над округом Хост». «Подыграли» и пакистанцы. Их официальные источники сквозь зубы сообщили о потере «в учебном полете» одного F-16. В итоге звездочку на борту рисовать было некому. А пять лет спустя в приватном разговоре один пакистанский летчик рассказал, что и в их среде отсутствовала полная ясность. По его словам, причиной был все же «гол в свои ворота», а вину тогда возложили на ведущего пары. Пилоты, сбитые с толку неожиданным маневром МиГов, неудачно выполнили перестроение, в результате готовый стрелять командир оказался позади ведомого и тот попал под удар. Любопытно, что западная печать поначалу описала этот инцидент с точностью до наоборот, доложив, что 29 апреля под Хостом истребители F-16 сбили вражеский самолет. Позднее рассказ подправили соответственно факту потери пакистанского истребителя и приукрасили, пустив по свету версию о том, как советские МиГи атаковали и ракетами Р-60М расстреляли F-16 (в таком виде эта версия с подачи некоторых авторов прижилась и в нашей «популярной» литературе). Присутствие самых современных по тому времени истребителей F-16 сказалось на обстановке, внеся напряженность при действиях авиации в приграничных районах. Тем временем интерес к такому трофею проявили разведывательные органы Генштаба. Машины этого типа поступали на вооружение стран НАТО, и наличие в Пакистане новейших истребителей побудило искать возможность для «более близкого» знакомства с техникой вероятного противника, крайне ценного и для военных, и для авиапрома, заинтересованного в новых технологиях и изучении передовых конструктивных находок. Понятным образом, надежды на поиск контакта с вероятным перебежчиком из западноевропейских летчиков были исчезающе малы. Иное дело — возможность заполучить самолет из Пакистана, где и разведка имела свои связи, и нравы были попроще. Рассматривалась возможность перехвата F-16 и принуждения его к посадке на одном из своих аэродромов, но шансы на успех поимки такого нарушителя были невелики. Более перспективной выглядела операция с использованием агентуры и традиционного для Востока сочетания войны и торговли. По принципу «у вас товар, у нас — купец», готовился перегон F-16 в Афганистан, где тот уже встречали бы дежурившие МиГ-23, под прикрытием которых осуществлялся дальнейший перелет до Шинданда и далее — в Союз. На аэродроме в постоянной готовности держали ангар, куда собирались спрятать от посторонних глаз трофей, а летом-осенью 1987 г. операцию с участием советских истребителей репетировали трижды. Правда, затея не состоялась — то ли не сошлись в цене, то ли пакистанского летчика не очень привлекали перспективы переселения в Советский Союз.  Летчики 168-го иап у истребителя МиГ-23МЛД. Баграм, лето 1988 г  Эмблемой 168-го иап стал пикирующий сокол Уже под конец командировки истребителям 190-го иап пришлось пережить в Баграме настоящую войну за авиабазу. В августе на подступах к ней стали появляться кочевавшие вокруг душманские отряды, начались обстрелы, а в День Авиации перестрелки разгорелись у самых стоянок. От сыпавшихся мин и ракет получили повреждения 23 самолета, а летчикам и техникам приходилось самим отстреливаться из стоявших в обороне пулеметов и ЗУ-23. Самолеты в эти дни наносили удары рядом с аэродромом и сбрасывали бомбы, едва успев убрать шасси. Обстрелы задерживали прилет сменщиков, из-за чего новая группа 168-го иап из Староконстантинова (полк входил в состав той же, что и 190-й иап, 132-й миргородской дивизии) прибыла в Баграм 14-го августа. Сменяемый 190-й иап пробыл в ДРА ровно 13 месяцев, задержавшись для передачи опыта очередной группе. В Кандагаре щучинскую эскадрилью сменило подразделение из их же 976-го полка (осенью четыре их истребителя заменили МиГ-23МЛД из Талды-Кургана). 168-м иап командовал полковник Владимир Алексеев. Готовя группу, опытный командир отобрал в нее летчиков не ниже 1-го и 2-го классов, определив, что «новичкам на войне делать нечего». После того, как в 1988 г. был взят курс на вывод советских войск, число крупных операций свели к минимуму, избегая напрасных жертв. Однако это лишь увеличило значение авиации, объемы работы которой существенно возросли. Основными задачами становилось блокирование противника ударами с воздуха, нарушение деятельности его баз, учебных центров и укрепрайонов, разрушение штабов, складов и опорных пунктов, срыв вылазок и диверсий. Систематические бомбардировки имели целью непрекращавшееся воздействие на противника и препятствовали выдвижению отрядов с приграничных баз. Так, основными районами для летчиков Баграма являлись долина Суруби, Кунарское ущелье вдоль границы с Пакистаном и Хостинский выступ — места, заслужившие прозвище «Страны Душмании», на бомбардировки которых ежедневно выделялись 8-12 истребителей.  Снаряжение самолета бомбовыми кассетами РБК-250. Боеприпасы на подъемнике уложены попарно «голова к хвосту» для удобства подвоза с обеих сторон самолета  Истребитель МиГ-23МЛД в ТЭЧ Баграмской базы. Август 1988 г МиГ-23 из Шинданда регулярно бомбили район Рабати-Джали на юге, откуда шли караваны с оружием. Здесь же у озер Сабари и Хамун находились душманские базы (по приметным ориентирам место так и звалось «у двух озер»), О целеуказании и совместной работе с вертолетчиками в удаленных и полностью находившихся под властью душманов районах речь уже не шла, летчикам требовалось полагаться на собственные силы при отыскании объектов ударов и проведении атак. Последней масштабной операцией с привлечением больших авиационных сил стала «Магистраль», проведенная в ноябре 1987 — январе 1988 гг. с целью разблокирования провинциального центра Хост, отрезанного от центра страны. На удары по опоясавшим Хост позициям моджахедов каждый день уходили из Баграма 50-60 самолетов — эскадрилья Су-17МЗ, следом 12-16 истребителей и за ними 16-24 Су-25. За два месяца операции летчики налетали по 90-120 ч (больше годичного норматива в Союзе). Авиации, расчищавшей дорогу пехоте и десантникам, придавалось особое значение, и уходивших на задание то и дело провожал в эфире голос командующего армией Бориса Громова: «Летчики, давай, за мной не засохнет!» При участии истребителей 168-го иап из Шинданда осенью 1987 г. проводилась операция по чистке «муравейника» зеленой зоны Герата. Отряды моджахедов Турана Исмаила вытесняли из долины в горы и ущелья, где старались накрыть бомбовыми ударами с воздуха. Помимо привычных боеприпасов, МиГ-23 применяли бетонобойные БетАБ-500, подвешивавшиеся по две на самолет. Такие бомбы отличались узким и длинным толстостенным корпусом с мощной литой головной частью из стали, обладавшим высоким пробивным действием. Целями служили подземные туннели-кяризы, пещеры и норы в горах. С использованием БетАБ-500 истребители Баграма дважды атаковали выявленное убежище Ахмад Шаха. Других боеприпасов, кроме фугасок, уже практически не использовали, и лишь несколько раз из-за задержки с их подвозом в дело пошли зажигательные ЗАБ-500. Всего за 1987 г. было выработано 113 тыс. бомб — на 18% больше, чем в предыдущем году. В то же время доля НАР снизилась в полтора раза, до 473 тыс. штук, и они использовались, в основном, вертолетами. Причиной явился уход самолетов на большие высоты, с которых применение НАР практически не представлялось возможным. Доля МиГ-23 в непосредственной авиаподдержке была сведена к минимуму из-за недостаточной эффективности и точности (причиной являлось то же вытеснение авиации за пределы досягаемости ПВО — при скоростном бомбометании с высоты даже рассевание бомб в 50-60 м считалось очень неплохим). Однако при совместной работе с войсками требовалось уничтожение именно точечных целей — огневых точек, укрытий и выявленных опорных пунктов, труднопоражаемых огневыми средствами пехоты. Для такого применения МиГ-23 подходил в наименьшей степени, уступая Су-25 и, особенно, вертолетам. Лишь при их отсутствии или задержке для ударов по вызову привлекались МиГи. Об одном таком случае под Гардезом в феврале 1988 г. вспоминал командир звена 168-го иап майор Михаил Огерь: «.Духи зажали на окраине кишлака десантников, и те просили дать огня. Но авианаводчика с ними не было, и мы крутились тремя звеньями сверху. Цель указать нам никто не мог, а высматривать с высоты этих пулеметчиков — безнадежное дело. Мы даже не видели, где идет бой, кишлак был большой. В конце концов, ведущий Толик Язон велел одному сбросить бомбы прямо в центр кишлака, чтобы внизу могли определиться по разрывам и дать свое положение. Однако те головы не могли поднять и даже не заметили разрывов. Помогло то, что их командир догадался сказать о том, что рядом горит автобус, коптят покрышки, черный дым столбом стоит — за версту видно. Мы зашли на шлейф дыма и отработали пара за парой вдоль дувала, где гнездились духи. Вроде, попали — разрывы легли стеной, десант сумел убраться из ловушки. Потом встречались — десантники говорили, когда бомбы стали ложиться рядом за дувалом, земля так играла под ногами, что натерпелись страху больше, чем от духовского огня». При работе в удаленных районах истребители 168-го иап вновь стали встречаться в воздухе с F-16. Придя в себя после потери самолета в весеннем происшествии, по истечении некоторого перерыва пакистанцы вновь вернулись к сопровождению появлявшихся у границы ударных групп авиации 40-й армии. Вылетев на бомбометание южнее Джелалабада, истребители как-то встретились с пакистанцами лицом к лицу. Пара F-16, видимо неудачно выведенная наземным оператором, влезла прямо в боевой порядок груженой бомбами эскадрильи, оказавшись рядом со старшим лейтенантом С. Талановым. Пакистанцев видели и другие летчики, но шедшие выше истребители прикрытия ничего не смогли сделать — F-16 находились прямо под ними, идя с той же скоростью и тем же курсом. Пакистанцы попали в такую же невыгодную для атаки ситуацию: снизу их поджимал фронт эскадрильи, а сверху нависала «прикрышка». Некоторое время летчики продолжали идти «бутербродом», разглядывая друг друга, после чего пакистанцы, образумясь, отворотом ушли на свою сторону. После даже подтрунивали над летчиками сопровождавшего звена, доложившими, что в прикрываемой группе «наблюдаются лишние». В другой раз, зимой 1988 г., капитан В. Пастушенко из дежурного звена Баграма ночью поднялся на перехват, отыскал нарушителя и в течение трех минут гнался за ним, готовый сбить, но так и не получил разрешения. На КП решили не рисковать, атакуя «чужака» без визуального контакта — им мог оказаться заблудившийся транспортник или рейсовый самолет. Сами летчики однозначно считали нарушителя истребителем: вряд ли другой самолет мог так резво уходить от МиГа. Той же зимой командир звена В. Маврычев несколько раз поднимался на перехват появлявшихся над Бараки и Гардезом целей. Поймать их ни разу не удалось: при сближении цели уходили вниз под прикрытие горной гряды, и их отметки исчезали с экрана прицела (судя по маневрам и скорости, это были вертолеты). Похожие события случались и у иранской границы, где неоднократно приходилось наносить бомбовые удары по душманским базам возле Рабати-Джали и в районе двух озер. К налетам привлекалась вся шиндандская эскадрилья, непременным образом сопровождавшаяся звеном прикрытия. «Прикрышка» подходила с некоторым опережением, ставя «забор» у границы, после чего появлялась ударная группа и атаковала цель. При групповых ударах вместе с МиГ-23 в налете принимали участие Су-17 и Су-25, из-за чего такой массированный налет среди самих летчиков звался «крестовым походом». Вылет приходилось выполнять на изрядном удалении от аэродрома — за 350 км, однако цель оправдывала средства: разгром душманских баз и складов в удаленных местах позволял предотвратить готовившиеся набеги и подорвать снабжение отрядов оппозиции, реализуя тактику, удачно поименованную в документах «дистанционным воздействием на противника». Неоднократно при вылетах случалось наблюдать появлявшиеся в отдалении иранские «Фантомы», но те демонстрировали сдержанность, ограничиваясь патрулированием своей стороны границы. В марте 1988 г. командиру звена майору М. Огерю случилось перехватить незнакомую цель у иранской границы. Прикрывая вертолеты с разведгруппой у Рабати-Джали в паре с капитаном Кондратенко, он обнаружил на подходе неизвестный самолет и пошел на сближение. Чужак не отзывался на запросы, и уже находился в захвате радиолокационного прицела. Перед летчиком уже высветилось сообщение «ПР» (пуск разрешен), извещавшее о готовности ракет к стрельбе. Внезапно незнакомец вышел на связь с криком «Я Бахтар!» Оказалось, что это был афганский Ан-32 правительственной авиакомпании ("Бахтар" - это ее название, прим. ВВС), шедший вне коридора, летчикам которого никак не удавалось вспомнить канал связи. Будучи перепуганными недвусмысленными эволюциями истребителя, афганцы перебрали все частоты и, наконец, смогли «представиться». Подобного рода инциденты с афганскими авиаторами были не единичными, особенно при работе тех в приграничных районах, когда возвращавшихся с удара «союзников» могли принять за нарушителей. Своевременному распознаванию препятствовало и то, что связь советских и афганских самолетов использовала разные каналы и даже ответчики системы «свой-чужой» могли не отвечать. Не особенно полагаясь на местное руководство полетами, навстречу неведомо чьим самолетам, идущим курсом от границы и не очень озабоченным соблюдением предписанных воздушных коридоров, приходилось направлять свои истребители, сближавшиеся до уверенного визуального опознания.  МиГ-23МЛД в прикрытии ударной группы над Кунарским ущельем. 168-й иап, весна 1988 г  Техники в «облегченной летней форме» ожидают команды на вылет Отношения с «союзниками» порядком ухудшились, когда стал очевидным скорый уход советских войск и правительственные военные стали испытывать понятное чувство неуверенности в завтрашнем дне с перспективой остаться один на один с набиравшими силу недругами. Недовольных высказываний в адрес советской стороны на этот счет хватало, доходило и до более серьезных проявлений несдержанности с обвинениями по поводу «предателей». Иной раз руководство ВВС 40-й армии даже давало команду поднимать дежурное звено или пару истребителей с ракетами, когда афганская авиация должна была работать вблизи от месторасположения советских войск, для предупреждения провокационных «промахов». Похожая история едва не приключилась с капитаном В. Барановым при вылете группы 168-го иап к Асадабаду. При выходе к намеченному району он обнаружил, что цель скрывает нависшая облачность. Чтобы поточнее прицелиться, летчик решил снизиться, пробивая облака.  Капитан И. Пахотин из 120-го иап перед выпетом  Летчик 120-го иап капитан В. Агуреев у своего самолета Пока он осуществлял маневр, его самолет удалился от группы и проскочил «ленточку». В соседнем ущелье он заметил похожий объект и отбомбился, однако уже после отворота на обратный курс ему навстречу вышли истребители прикрытия, принявшие идущий с сопредельной стороны МиГ-23 за нарушителя и собиравшиеся его атаковать. До стычки не дошло — уже на сближении с помощью радиолокационного ответчика разобрались, что речь идет о своем самолете. Боевых потерь 168-й и 976-й иап не понесли — поднятая до 4500 м нижняя граница высотности практически исключила возможность поражения зенитным огнем над целью. Все удары предписывалось наносить с первого захода, не допуская повторных атак. Эшелоны полета к району цели для МиГ-23 назначались поднятыми до 8000-8500 м истинной высоты. За весь «заезд» имелось лишь несколько пулевых пробоин, полученных при «нырках» на выходе из атаки и при заходе на посадку. Однако, несмотря на хорошую подготовку летчиков (в шиндандской эскадрилье 168-го иап все истребители, кроме двоих капитанов, имели звание не ниже майорского), не удалось избежать обильного «букета» аварий и поломок. Уже через пару месяцев после прилета замполит 168-го иап полковник Провоторов сел до полосы. Самолет дал энергичного «козла», в два прыжка налетел на порог бетонки, снес фальшкиль и переднюю стойку. На истребителе был серьезно помят фюзеляж, ПТБ и обе ракеты Р-60 на нижних узлах подвески. Самолет удалось восстановить, несмотря на «поведенный» фюзеляж. В марте 1988 г. в Баграме при посадке группы МиГ-23МЛД Михаила Царева уже на пробеге догнала «спарка» и, ударив консолью, сбросила с полосы. Вылетевший на грунт истребитель попал в арык и подломил основную стойку. Он также был восстановлен, но в боевых действиях не участвовал и позже пошел на списание (летчики жаловались, что помятый самолет «стал летать боком»). «Спарка» виновника происшествия, в свою очередь, налетела на крыло истребителя и получила скользящий удар по перископу кабины, сбивший задний фонарь и едва не задевший голову летчика. После этого «спарка» продолжала нестись вперед и ударилась о консоль истребителя форкилем, разрубленным до самого лонжерона вместе с электроарматурой. В итоге покалеченный самолет провели на списание под благовидным предлогом «неудовлетворительного технического состояния из-за коррозии баков». Обстоятельства потери МиГ-23МЛД в Кандагаре 18 апреля остались невыясненными: при выполнении контрольного облета после отпуска летчика самолет столкнулся с землей на посадочном курсе. Стрельбы по нему не наблюдали и причиной могло стать как случайное попадание, так и ошибка или плохое самочувствие летчика, восстанавливавшегося после перерыва в полетах. Капитан П.Н. Кругляков даже не пытался покинуть машину и погиб в ее кабине. К началу вывода войск 15 мая из общего числа 164 самолетов ВВС 40-й армии истребители МиГ-23 составляли ровно четверть — 41 единицу. К августу был оставлен Кандагар, откуда эскадрилья 976-го иап накануне вылетела домой. К этому времени установился порядок награждения летного состава соответственно выполненной работе, оценивавшейся числом вылетов. Соответственно уходили и наградные листы. А пока шло оформление награды, летчик продолжал летать на боевые. По итогам годичной работы в 168-м иап капитаны Симаков, Пастушенко и другие, слетавшие на задания более 300 раз, один за другим получили по три ордена Красной Звезды. Иной раз бывало, что причитавшиеся летчику несколько наград приходили в течение недели-другой. Командир полка Владимир Алексеев был награжден орденом Ленина, а начальник штаба подполковник Владимир Шегай, занимавшийся непосредственной организацией боевой работы, помимо трех Красных Звезд, имел высоко ценившийся орден Красного Знамени. С учетом перемен в обстановке, состав и размещение новой группы из 120-го иап, прилетевшей 19 августа из забайкальской Домны, отличались от предыдущих. Две эскадрильи привел командир полка полковник Валентин Бураков, но количество машин в них было увеличено. В 1-й эскадрилье подполковника С. Бунина насчитывалось 19 МиГ-23МЛД и 2 МиГ-23УБ, во 2-й эскадрилье подполковника В. Белоцерковского — 14 МиГ-23МЛД и 2 МиГ-23УБ. Основная их часть сосредоточилась в Баграме, где истребительная группировка составила 29 МиГ-23МЛД и 5 «спарок», а присутствие в относительно спокойном Шинданде ограничили одним дежурным звеном из состава 2-й эскадрильи. Их основной задачей являлось прикрытие штурмовиков, истребителей-бомбардировщиков Су-17 и МиГ-27, преимущественно работавших под Кандагаром. Позднее к задачам истребителей добавилось сопровождение бомбардировщиков Су-24, Ту-16 и Ту-22М3. Чтобы встретить у самой границы вылетавших с аэродромов Туркмении и Узбекистана «дальников», МиГ-23МЛД, помимо ракет, несли по три ПТБ. Усиленные эскадрильи потребовали пополнения личным составом для снижения нагрузки на людей. 17 сентября в Баграм на Ан-12 прилетела группа летчиков и техников 32-го гв. иап из Шаталово. Полк являлся лидерным на истребителях МиГ-23, первым в ВВС начав эксплуатацию новейших тогда самолетов (казалось невероятным, но это происходило почти двадцатью годами ранее и «двадцать третий» имел уже более чем приличный стаж нахождения в строю). Группа включала управление эскадрильи во главе с комэском подполковником Николаем Лысачеком, четыре звена летчиков и полный штат техсостава. Это позволило наладить посменную работу с высокой интенсивностью. Обычно в первой половине дня работала домнинская группа, затем ее сменяла шаталовская. Выполнялись и совместные вылеты, однако даже в сборной команде! всегда сохранялись слетанные пары | из 120-го и 32-го иап. Обстановку в Баграме «под занавес» описывал техник самолета 120-го полка капитан В. Максименко: «В сентябре стояла еще весьма ощутимая жара за +30°С каждый день. В сухом воздухе человек высыхает, как вобла, я сам сбросил за месяц 17 кило, а потом еще пять. Донимала пыль, вездесущая и всепроникающая, а после полудня, как по часам, начинал дуть ветер, несущий тучи песка и острые камни, секущие лицо и руки. Дает себя знать двухкилометровое превышение аэродрома и недостаток воздуха, от чего сердце то и дело начинает скакать, как бешеное. Между стоянками надо передвигаться с осторожностью: за девять лет все окрестности нашпигованы минами, причем никто толком не помнит — кто, где и когда минировал, да и под ногами валяются втоптанные патроны, снаряды и взрыватели. Даже само время в Афганистане какое-то скособоченное — летом разница с Москвой составляла полтора часа, зимой — полчаса. Авиация держится на тяжелой и потной работе с легким привкусом романтики, но тут вообще ощущаешь себя бесплатным приложением к технике. Вдобавок, на аэродроме теснились больше полутора сотен самолетов, и на нем было не протолкнуться. Уже на третий день прямо перед моим самолетом, остановившемся на рулежке перед ВПП, у садящегося афганского МиГ-21 с грохотом взрывается передний пневматик, колесо и барабан мигом стесываются в мощных языках пламени, стойка загибается назад вопросительным знаком, и в таком виде он проскакивает всю полосу и останавливается кверху задницей. Повезло, что не перевернулся. Соседний с моим борт №51, «разувшийся» на посадке, стаскивают на грунт, поднимают на «козлы» и меняют колесо. Тут же следом у садящегося Су-17 в стороны летят клочья резины от колес, он описывает плавную дугу и со звоном и грохотом на тормозных барабанах скатывается с бетонки, остановившись рядом с нашим самолетом. Летчик вылезает из кабины: «Ребята, я тут постою, не очень вам помешаю?» Несколько раз наблюдал, как самолеты «разувались» сразу на взлете и на голых дисках возвращались прямо в руки только что выпустивших их техников. У соседей-афганцев Су-22 на посадке протаранил «Урал», срезавший путь через бетонку. Себе расквасил нос и крыло, разбил машину вдрызг, убив в кабине двоих «коммерсантов», сторговавших на складе пару бочек с авиационным керосином (обрушилась на них «кара небесная»)!»  МиГ-23МЛД в дежурном звене Баграма. Январь 1989 г Истребители 120-го иап выполнили первый самостоятельный боевой вылет уже на другой день после прилета — 20 августа. Включившись в нанесение плановых и предупредительных ударов, они должны были сдерживать противника и не допускать выдвижение его сил к дорогам, по которым шел вывод войск. Задачи выполнялись путем планомерного «выкатывания» на указанные квадраты бомбового тоннажа. В итоге за 1988 г. расход авиабомб достиг наибольшей цифры — 129 тыс. штук. По данным 1988 г. выполнение собственно истребительных задач на сопровождение ударных групп и патрулирование составляло 15% всех вылетов, 4% занимала разведка, в основном же истребители продолжали раскручивать «карусель» бомбоштурмовых ударов, на которые приходилось 80% всех вылетов. К этому времени удары наносились почти исключительно бомбами. Типовой нагрузкой МиГ-23 стала пара бомб калибра 250 или 500 кг. Дежурное звено, регулярно выделявшееся на аэродроме, тоже не оставалось без работы: его летчики поднимались в воздух для усиления истребительного прикрытия и его подмены при встрече возвращающейся из приграничных районов группы, будучи «на подхвате» при возникновении всякого рода внеплановых ситуаций. Во время визита в Кабул в январе 1989 г. советской правительственной делегации во главе с Э.А. Шеварднадзе в небе над городом кружили дежурные МиГи из Баграма, а для защиты правительственного Ту-154 от «стингеров» дорогу от самой границы «тропили» САБами. Прикрывая перелет, в эту ночь истребители сделали 12 вылетов, а больше всех налетал майор В. Магдалюк, приземлявшийся только затем, чтобы сменить самолет на заправленный и снаряженный. Тактика бомбометания с больших высот разнообразием не отличалась и сводилась к выходу группы на цель, после чего самолеты поодиночно или парами заходили на объект, поочередно производя сброс с пикирования. Ближе к зиме, выдавшейся ранней и снежной, все чаще задания стали осложняться плохой погодой, туманами и облачностью, скрывавшими цели. Чтобы сориентироваться над местностью, окутанной плотной дымкой, из которой выступали лишь вершины гор, практиковались вылеты смешанными группами, в которых выход к месту бомбардировки обеспечивали Су-17М4, обладавшие ПрНК с более точными характеристиками навигации, лучше приспособленным для решения задач самолетовождения. Оснащение «сухих» позволяло вести навигационное бомбометание по назначенным координатам с приемлемой точностью. Маршрут и координаты цели для истребителей-бомбардировщиков программировались на земле, после чего МиГ-23 пристраивались за лидером, выходя в назначенную точку и бомбя с горизонтального полета по команде «Сброс» от ведущего. Иногда группа МиГ-23 шла следом за группой Су-17М4, следя за их бомбометанием и сбрасывая бомбы сразу по их отходу на «сухих». Большая часть целей лежала у пакистанской границы, где обязательным был истребительный заслон, особенно после потери 4 августа Су-25 замкомандующего ВВС 40-й армии полковника А. Руцкого. Вскоре над Кунаром и истребители 120-го полка подверглись атаке пакистанцев. Очередная стычка с ними пришлась аккурат на 40-й день после происшествия с Руцким. 12 сентября 1988 г. группа МиГ-23МЛД из 120-го иап вылетела на удар по объектам в долине реки Кунар восточнее Асадабада. Пакистанцы проявляли все большую активность, и летчики не раз докладывали о «визуальном контакте» с F-16, сопровождавшими со своей стороны ударные группы. Напряженность буквально висела в воздухе, разрядившись в этот день открытой стычкой. Собравшись над приметным ориентиром (озером Суруби), группа направилась к границе. Туда загодя ушли две пары прикрытия: цели лежали у самой пограничной полосы, из-за чего были выделены две пары прикрытия. Над горным массивом в 50 км северо-западнее места атаки зону патрулирования заняли истребители комэска подполковника Сергея Бунина и его замполита майора Николая Голосиенко, а в 40 км южнее находились майор Семен Петков и старший лейтенант Владимир Данченков. Однако F-16, привлеченные их появлением, уже находились в воздухе: с базы Камра поднялась пара истребителей лейтенанта Халида Махмуда из 14-й эскадрильи ВВС Пакистана, последовавшая за МиГами параллельным курсом. Уже через несколько минут с земли им сообщили, что в воздухе появилась колонна самолетов — к цели подтягивалась ударная группа. Над Куна-ром она повернула на север, ложась на боевой курс вдоль границы. Когда ударная группа выстроилась в колонну для захода на цель, она оказалась в считанных километрах от границы, чем и воспользовался противник. Прикрытие ушло довольно далеко, и ничто не мешало Халиду выйти к середине растянувшейся цели. Ближайшим к нему оказался МиГ-23МЛД (борт №55) капитана Сергея Привалова, крайний в пеленге второго звена. Вынырнув в 13 км от него из густой облачности, Халид услышал, что у него «зафонила» станция предупреждения об облучении: барражировавшие в нескольких минутах полета МиГи разворачивались в его сторону. В планы пакистанского летчика это не входило. Он начал маневрировать, в спешке из полупереворота с креном 135° пустил две AIM-9L и вышел из боя вверх ногами в 1500 м от атакованных МиГов. Одна ракета ушла далеко в сторону, но второй «Сайдвиндер» разорвался над самолетом Привалова, осыпав его осколками. Встряска была сильнейшей, летчик испытал чувствительный удар, даже ноги сшибло с педалей. Крупный осколок вошел в закабинный отсек в полуметре от его головы, остальные полоснули по закрылку и левой консоли, пробив топливный бак-кессон. За самолетом потянулся белесый шлейф топлива, однако после первого шока летчик убедился, что самолет не горит, держится в воздухе и слушается рулей. 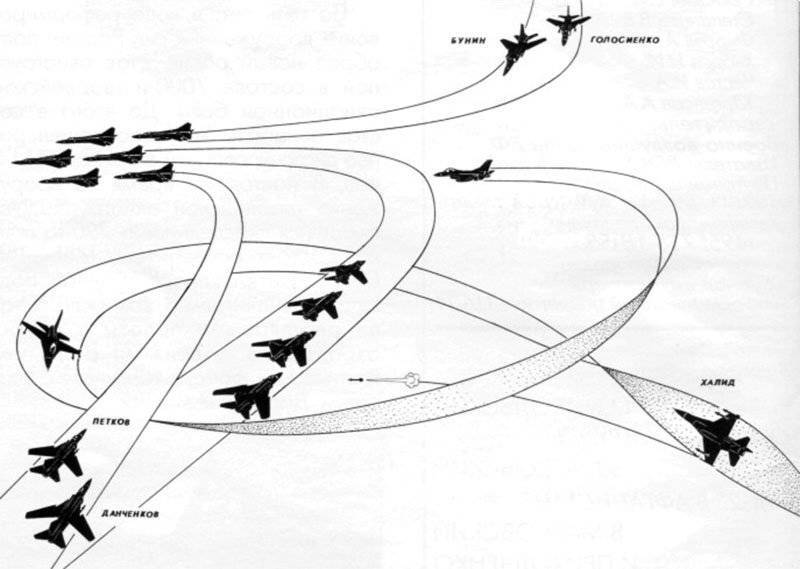 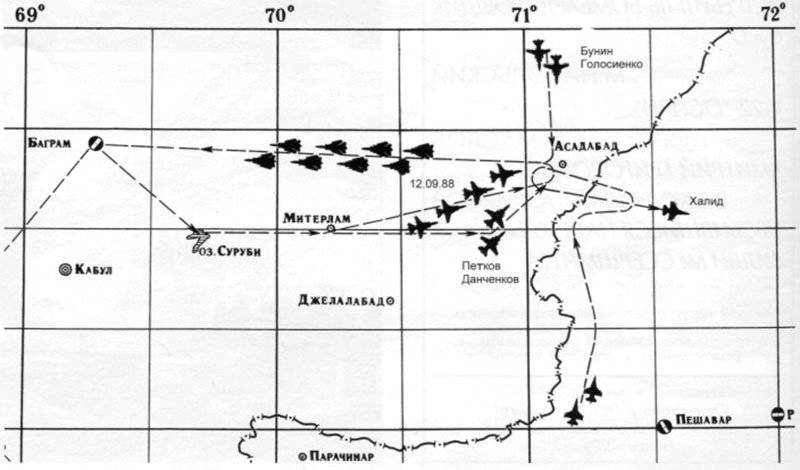 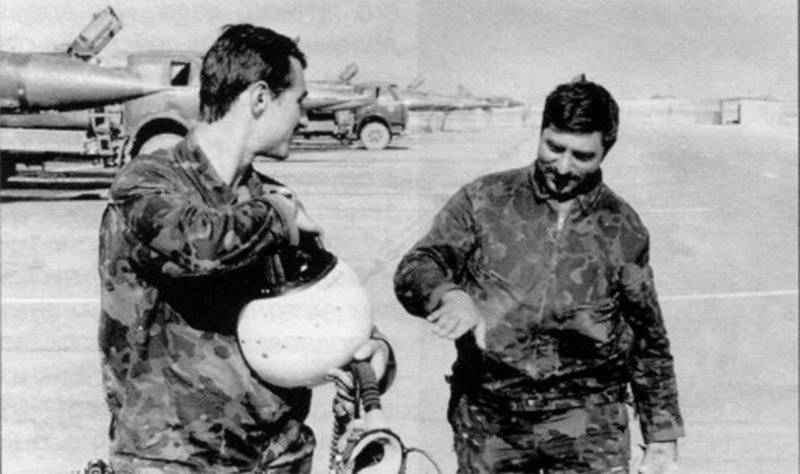 Майор Семен Петков и капитан Владимир Данченков после стычки с пакистанским истребителями: «Я ж, его, гада, вот так держал!» 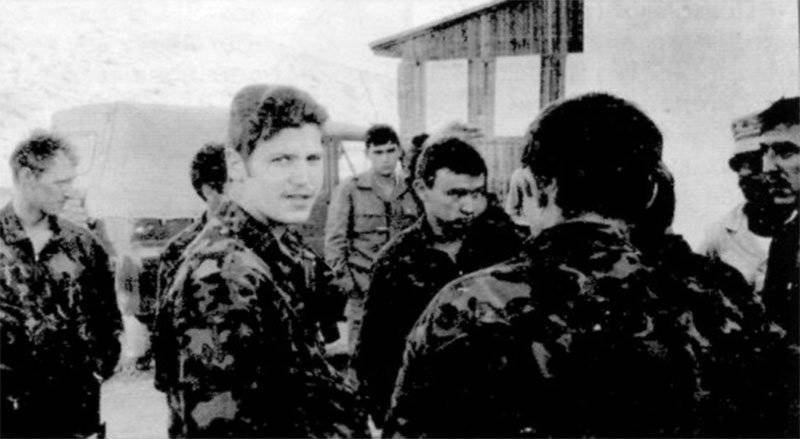 Летчики 120-го иап обсуждают произошедшее после вылета 12 сентября 1988 г. В центре — капитан Сергей Привалов  Пробоина за кабиной самолета С. Привалова. Массивный осколок пробил гаргрот в полуметре от головы летчика 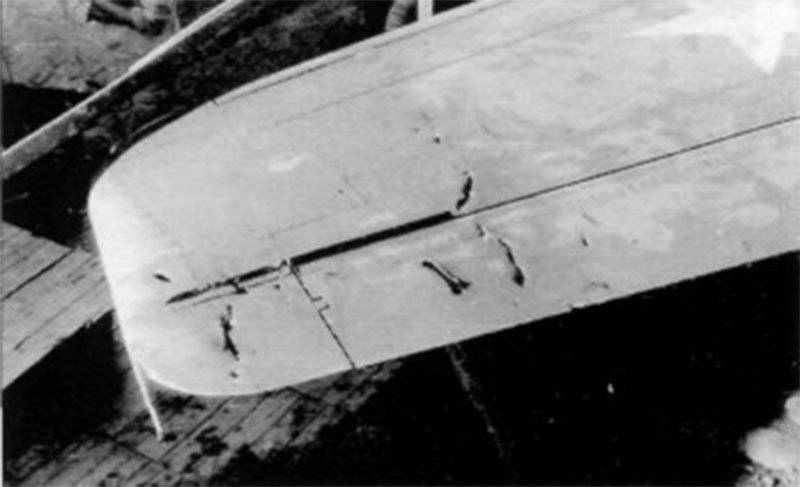 Следы попадания ракеты в крыле МиГ-23МЛД (борт №55) после инцидента 12 сентября 1988 г  Встреча самолета №55 после стычки с пакистанцами К месту стычки на форсаже рванулись обе пары прикрытия, в эфире поднялся крик и мат. Пакистанцу грозили серьезные неприятности — дальности пуска ракет Р-24Р вполне хватало, чтобы сразить его еще перед границей, на земле даже услышали возглас: «Дай я его грохну!» Однако сравнять счет не удалось — с КП приказали всем спешно уходить, опасаясь схватки над удаленным районом, где ситуация не была выигрышной: противник мог ввести в бой новые силы, а МиГи имели небольшой запас топлива. Пакистанцы располагали здесь всеми преимуществами, от перевеса в силах до тактической обстановки, да и открытое столкновение с соседним государством накануне долгожданного прекращения войны было нежелательным. Сбросив бомбы, Привалов повернул домой, за ним потянулась остальная группа. Замыкали строй Бунин и Голосиенко, и тут сзади снова появилась пара F-16. Пакистанцы пошли следом, намереваясь расстрелять МиГи на догоне, однако угнаться за ними не смогли: установив крылья на максимальную стреловидность, те на форсаже разогнались до скорости звука (хотя с подвесным баком существовало ограничение М=0,8). На подходе к Баграму подбитый МиГ пропустили вперед, чтобы он садился первым. Запаса топлива у него практически не оставалось: судя по расходомеру, самолет потерял уже 1200 л керосина. Оставляя мокрый след на бетоне, истребитель зарулил на стоянку, где течь прекратилась сразу после выключения двигателя — горючее кончилось. Севший следом Петков вылез из самолета и с досадой грохнул шлемом о бетонку: «Мать их..! Чтоб я еще летал на «прикрышку»! Я ж, его, гада, в прицеле держал!» Вечером на разбор полетов прибыл командующий ВВС 40-й армии генерал-майор Романюк, склонявшийся к тому, что летчики нарвались на огонь с земли — вывод, куда более выгодный, чем признание нерешительности руководства и недостатков планирования, приведших к растянутости группы и неэффективности прикрытия. Не будь перехвата, не было бы и проблемы. Но летчики, на глазах у которых разворачивалась картина, настаивали на своем. Шедший в третьем звене капитан Игорь Дедюхин на вопрос, почему он решил, что это был F-16, ткнул пальцем в рисунок этого самолета в книжке: «Да как... Я просто видел вот такой». Пакистанцы после благополучного возвращения на свою базу заявили об уничтожении двух МиГов. Более того, расходившийся Халид рассказывал, что он мог сбить все шесть машин остававшимися ракетами и пушечным огнем, но ему помешала еще одна подоспевшая пара МиГ-23. Вскоре западная пресса разнесла весть о том, что пакистанские солдаты подобрали обломки двух сбитых самолетов. Эта легенда перекочевала и в отечественную печать. Имеют хождения и другие версии этой стычки, столь же разнообразные, как и безосновательные. В прессе встречаются и мифические рассказы о сбитом 7 сентября над Пакистаном афганском МиГ-23 и еще одной победе F-16 над МиГ-23, приключившейся 3 ноября (7 сентября «Стингером» был сбит афганский Ан-32, но произошло это у Кундуза в 200 км от границы, а бой 3 ноября имел место при перехвате афганских же Су-22). Реально 40-я армия в воздушных боях не утратила ни единого МиГ-23, да и вообще за 1987—1988 гг. боевых потерь самолетов этого типа не было. Вопреки утверждениям некоторых отечественных авторов, афганцы «двадцать третьих» вообще не имели. Месяцем спустя после сентябрьской стычки вновь едва не дошло до воздушного боя между советскими и пакистанскими истребителями. В этот раз пакистанцы действовали откровенно вызывающе, по всей видимости, намереваясь повторить недавний «успех». 15 октября ударная группа советских самолетов вышла к приграничной полосе для нанесения удара, когда вблизи появились F-16. Противник определенно искал боя: пара чужих самолетов была обнаружена в непосредственной близости — прошедшей прямо под ударной группой. Прикрытие в тот раз осуществляло звено МиГ-23 под началом полковника Г. П. Хаустова из управления ВВС 40-й армии. Ведомый уже запросил было разрешения на стрельбу, но ведущий группы не стал торопиться с ответной атакой в откровенно невыгодной тактической обстановке, выбрав иной вариант — вытеснения противника нарочито напористыми встречными действиями, Командир вышел на угрожаемый фланг группы и со стороны солнца пошел на сближение, демонстрируя готовность к атаке. Отсекая противника от своей группы, «прикрышка» сковывала его маневры, предупреждая сколько-нибудь активные позывы. Чужие истребители непрерывно находились в захвате радиолокационных прицелов, предупреждавших о нахождении под угрозой. Решив не испытывать судьбу, пакистанцы отвернули на свою территорию, и ситуация для обеих сторон разрешилась принципом «лучший бой — тот, который не состоялся». Полковник Григорий Хаустов являлся наиболее результативным из летчиков-истребителей авиации 40-й армии, имея на счету число боевых вылетов, переваливавшее за 670. К тому времени он уже во второй раз находился в Афганистане. Будучи летчиком с четвертьвековым стажем, оба раза он направлялся «исполнять интернациональный долг» из своей части в индивидуальном порядке: первый раз в должности старшего штурмана управления ВВС 40-й армии, затем уже старшим летчиком-инспектором. Летная судьба его складывалась по всем меркам неординарно: в юности его даже не хотели призывать в армию по причине слишком низкого роста — призывник Хаустов не дотягивал до положенных полутора метров. Однако он пообещал, что добьется своей цели и непременно подрастет, чтобы пойти в армию. Годом спустя медкомиссия зафиксировала удивительный факт — каким-то образом парень прибавил целых семнадцать сантиметров и мог пойти на военную службу. Отслужив срочную, после демобилизации из армии сержант Хаустов отправился поступать в летное училище. Мечтой парня было стать непременно истребителем. Однако в приеме ему отказали теперь уже как не проходящему по возрасту — ему исполнилось 22 года, тогда как в училище по всем нормам брали только до 21. Еще два года ушло на просьбы и обращения в разные инстанции, от Главного штаба ВВС до Кремля и Никиты Сергеевича Хрущева. Везде отказывали, предлагали даже походатайствовать о «более подходящем» приеме в сельхозинститут. И все же, в конце концов, личным разрешением Главкома ВВС сержант запаса Григорий Павлович Хаустов был допущен к сдаче вступительных экзаменов в Качинское летное училище. Офицерское звание лейтенанта Ха-устов получил, когда ему было уже 28 лет, и его первый комэск в истребительном полку был всего годом старше. 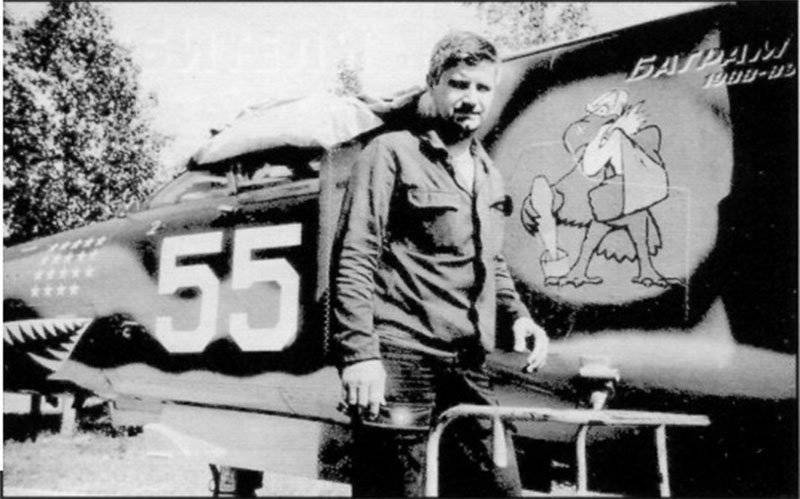 После повреждения пакистанской ракетой на борту №55 появилась соответствующая эмблема  Летчик-истребитель 120-го иап капитан Н. Балабуха После нескольких не имевших успеха рапортов о направлении в Афганистан, неугомонный летчик написал письмо в адрес XXVII съезда КПСС с предложением использовать свой боевой опыт истребителя в реальной обстановке. Его первая командировка была отмечена орденами Красного Знамени и Красной Звезды, а также афганского ордена «За храбрость». Будучи офицером группы управления, Хаустов отнюдь не ограничивал свою работу штабными обязанностями — летал на бомбоштурмовые удары, водил ударные группы, летал на прикрытие и «свободную охоту», имея на счету вылетов побольше других. В первый срок пребывания в Афганистане он налетал 360 боевых вылетов, во второй — еще 310. Рассудительного офицера с хорошими организационными способностями и богатым летным опытом ценило командование. В числе достоинств Хаустова как руководителя, командующий ВВС 40-й армии генерал-майор В. Кот отмечал его склонность к тактическому мышлению и нетрадиционности решений. В Афганистане Хаустов находился до последних дней пребывания там советских войск, вернувшись домой вместе с выводившейся авиацией 40-й армии в конце января 1989 г. К этому времени общий стаж службы полковника Григория Хаустова в авиации составлял уже 26 лет. Вот выписка из его личного дела: «Во время ведения боевых действий в составе трупп и лично уничтожил 35 пулеметных гнезд, 41 автомобиль и 17 караванов с оружием, 46 минометов, 17 зенитных горных установок, 14 складов с боеприпасами и медикаментами, 27 пусковых установок реактивных снарядов». При вылетах на сопровождение ни один из самолетов в прикрываемых им ударных группах не был потерян. Оценивая действенность истребительного сопровождения, надо отметить, что в большинстве случаев «прикрышка» свое дело делала, самим своим присутствием сковывая активность противника и предупреждая нападения на советские самолеты. Как известно, «лучший бой — тот, который не состоялся». Иное дело, что результаты боевой работы истребительного сопровождения были не столь зримы: действия «прикрышки» ограничивались строгими наставлениями «не провоцировать противника» и даже в случае явного присутствия чужих истребителей и их агрессивного поведения атаковать их позволялось при гарантии соблюдения всех предупредительных оговорок — убедившись, что перехват будет произведен непременно над своей территорией и при условии выполнения ракетной атаки исключительно в сторону своего воздушного пространства. Выполнять стрельбу в направлении границы запрещалось — при дальности пуска ракет Р-24 те могли уйти далеко вглубь соседней территории и такая стрельба могла привести к шумному международному скандалу. «Положить в карман» противника даже при визуальной встрече при таких условиях было крайне затруднительно. 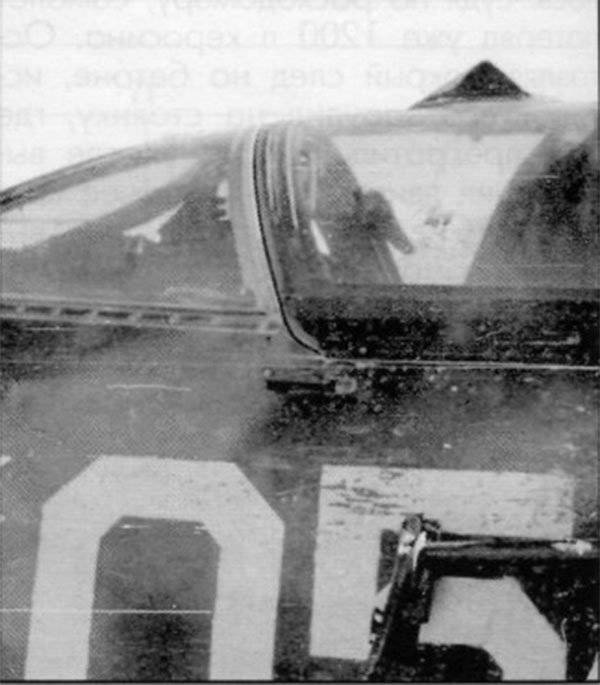 Пулевая пробоина в фонаре самолета капитана Н. Балабухи. Пуля прошла перед лицом летчика во время выруливания на полосу Боевая работа в Шинданде велась менее интенсивно, из-за чего к осени 1988 г. там по-прежнему оставалось только дежурное звено истребителей. Дежурство в Шинданде несли посменно, давая возможность отдохнуть в тамошнем «санаторном» режиме. Здешней четверке истребителей преимущественно приходилось осуществлять ПВО аэродрома и сопровождать ударные группы штурмовиков и истребителей-бомбардировщиков. «Иранке», как звали соседей афганцы, было не до пограничных конфликтов: из-за чувствительных потерь на иракском фронте, отсутствия пополнения самолетного парка и трудностей с запчастями в ВВС Ирана осталось всего около десятка «Фантомов», несколько F-14A и до полусотни более простых F-5. Истребители Шинданда не раз видели на экранах РЛС появлявшиеся с сопредельной стороны самолеты, особенно при рейдах в районе Рабати-Джали, но те уклонялись от сближения, держа безопасную дистанцию. Тем не менее, именно на иранском направлении советским истребителям удалось одержать «чистую» победу. В сентябре ПВО авиабазы четырежды засекала воздушное нарушение границы в провинциях Герат и Фарах, но перехватить цели не удавалось — они сразу же уходили на свою территорию, а пускать ракеты им вдогон не разрешалось. Игра в кошки-мышки затянулась, и после нескольких бесплодных попыток было принято решение отсечь нарушителей от границы и уничтожить. 26 сентября после очередной тревоги в воздух поднялись опытные летчики майор Владимир Астахов и капитан Борис Гаврилов. Выждав, пока нарушители уйдут подальше от границы, они выполнили обходной маневр и атаковали цели с запада, пустив с 7—8 км по одной Р-24Р, как и предписывалось, вглубь своей территории. Атака проводилась над безлюдным горным плато в 75 км северо-западнее Шинданда с высоты 7000 м по радиолокационному прицелу. Визуально попадания они не видели, так как противник шел в пыльной дымке у земли, но доказательством победы служили пленки ФКП, зафиксировавшие погасшие метки на экранах прицелов. Через две недели победу подтвердила пехота, во время рейда в указанном квадрате наткнувшаяся на остовы двух вертолетов. После стычки с пакистанцами в 120-м иап имели место еще несколько случаев боевых повреждений: один МиГ-23 привез в закрылке застрявшую автоматную пулю, а фонарь самолета капитана Николая Балабухи (борт №05) был прострелен на земле при выруливании. Однако участившиеся обстрелы аэродрома едва не привели к тяжелым последствиям: при ночном минометном налете одна из мин упала прямо под носом уже пострадавшего в стычке с пакистанцами 55-го борта. На случай обстрелов самолеты по окончании полетов рассредоточивали, растаскивая по стоянкам подальше друг от друга, но в тот раз мина легла точно у самолета. Самолет чудом избежал серьезных повреждений, лишь при внимательном осмотре обнаружили срезанную осколком масленку на механизме разворота переднего колеса. Крупный осколок застрял в штабеле ящиков с боеприпасами, другими пробило борт соседнего истребителя и распороло фюзеляжный бак «спарки», из которого вылилось полтонны керосина. Следующее попадание могло превратить стоянку в костер, но злополучная мина оказалась последней. Злоключения 55-го борта на этом не кончились: еще через две недели с выруливавшего на взлет истребителя сорвалась фугасная «пятисотка», плюхнулась на бетон и покатилась в сторону. Летчик в растерянности притормозил, а выпускавшие его техники после секундного замешательства кинулись врассыпную, прячась за капониры и штабеля боеприпасов. К счастью, взрыватель не сработал. Выждав пару минут, оружейники вернулись к самолету и водрузили бомбу на место. Помимо боевых «дырок», случались отказы техники, хотя один из наиболее серьезных случаев, приведших к потере машины, фактически стал следствием недостатков обслуживания. На МиГ-23МЛД №54 с самого начала «выплывал» дефект в работе механизма разворота колеса (МРК), используемого при рулении. Неисправность проявлялась время от времени, будучи обусловленной износом дюралевых роликов направляющей поворотом стойки. Своевременно его не заметили, и 8 ноября истребитель майора В. Кривошапко потянуло на пробеге в сторону и снесло с полосы. Вылетев на приличной скорости на грунт, самолет понесся на пост радиотехнической службы. Чтобы остановить машину, летчик стал убирать шасси, передняя стойка сложилась, и истребитель зарылся носом в землю у самого ограждения. На самолете оказалась полуоторванной носовая часть, а планер деформировался настолько, что ремонту машина не подлежала. Двумя неделями раньше при заходе на посадку летчик МиГ-23МЛД №38 капитан К. Ворсин в спешке не выпустил закрылки. Сзади поджимала группа, садившаяся на 10-15 секундных интервалах, в небе до 10 км все было забито снижавшимися самолетами, а малый остаток топлива не позволил уйти на второй круг. Касание произошло на скорости 480 км/ч. Тут же оторвался тормозной парашют, самолет без задержки выскочил за пределы полосы и, прорвав сеть аэродромного тормозного устройства, зацепился за его трос. На этой «привязи» он описал дугу и врезался в обваловку сторожевого поста, где стояла БМП охранения. Сидевшие на броне бойцы кубарем полетели в разные стороны. Обошлось без жертв и раненых, но на зарывшемся в каменистый грунт самолете снесло все антенны и датчики на носу, сильно помяло фюзеляж до кабины, подломилась передняя стойка и даже воздухозаборники были набиты землей. Больше всего пострадало крыло, сместившееся в плане на 4° из-за деформации центропланной силовой рамы, коробка которой была смята, а ее стальная диафрагма 5-мм толщины прорвана в нескольких местах, словно бумажная. На восстановление истребителя ушло два месяца и по бумагам он считался возвращенным в строй. После этого его перегнали на ремзавод в Союз, где при более тщательном осмотре помятый самолет признали не подлежащим дальнейшей эксплуатации.  Капитан Сергей Лубенцов катапультировался под Шиндандом 11 января 1989 г. после отказа двигателя. Его МиГ-23МЛД стал последним боевым самолетом, потерянным в Афганистане  «Жемчужина Забайкалья» и F-16 в прицеле МиГа на эмблеме 120-го иап  Аварийная посадка МиГ-23МЛД капитана Н. Кривошапко 8 ноября 1988 г Следующее происшествие случилось в шиндандском звене. При возвращении с сопровождения бомбардировщиков из-под Кандагара 11 января 1989 г. на МиГ-23МЛД №42 капитана С. Лубенцова отказал подкачивающий турбонасос — лопнула рессора, соединявшая его с коробкой приводов. Двигатель стал захлебываться, летчик несколько раз запускал его в воздухе, но самолет быстро терял высоту и в 110 км от Шинданда Лубенцову пришлось катапультироваться. На КП о катапультировании летчика в пустыне узнали сразу же от его ведомого А. Лактионова. Сопровождая спускавшегося на парашюте товарища, он не удержался от комментария: «Ну, красиво ты оттуда вылетел, зрелище — сила!». Для спасения Лубенцова пришлось разворачивать целую операцию с привлечением Су-25 и вертолетов. Спасение летчика прошло успешно, хотя ему и пришлось провести несколько тревожных часов в ожидании поисковых вертолетов. На счастье, места оказались безлюдными, хотя потом Лубенцов и вспоминал, что вот-вот ожидал «новогодних подарков». Штурмовики, тем не менее, разнесли выезжавшую из лежавшего в удалении кишлака машину, направлявшуюся к месту падения самолета. МиГ-23МЛД капитана Лубенцова стал последним советским боевым самолетом, потерянным в Афганистане. Аналогичный отказ случился «под занавес», через три недели, когда 120-й иап покидал Афганистан. МиГ-23 задержались в Баграме дольше остальных, прикрывая отлет соседей — 378-го штурмового полка и 263-й разведэскадрильи. Опасность поджидала авиаторов уже по пути домой. В суматохе вывода уже в новогодние дни из Баграма ушли мотострелки. Десантники 345-го полка выдвинулись на блоки вдоль дороги, обеспечивая прикрытие ухода. Аэродром остался почти без охраны, и удачей было то, что противник не решался штурмовать авиабазу в надежде и без того получить ее едва ли не на следующий день после ухода «шурави». С обеда 31 января истребители начали подниматься в воздух, направляясь на север. Полк уже прошел половину маршрута, когда на МиГ-23МЛД с бортовым номером 32 отказал топливный насос. Пилотировавший машину замполит эскадрильи майор Василий Хлистун и шедший с ним в паре комэск Владимир Белокурский повернули обратно, рассчитывая на помощь выпускавших их техников, все еще остававшихся на аэродроме (на этот счет было предусмотрено — никто не отлучается со стоянки и задача считается выполненной, только когда вылетевшие самолеты сядут в месте назначения). Им повезло — на окраине аэродрома оставался разбитый и полуразобранный 54-й самолет, с которого можно было позаимствовать вполне работоспособный насос. Пара заходила на посадку и заруливала на опустевший аэродром уже в темноте. К этому времени все помещения авиабазы были заминированы, в мерзлой грязи валялись брошенные патроны, мины, неразорвавшиеся гранаты и взрыватели, так что едва ли не единственным местом оставалась рулежка и стоянка, на которой и замерли самолеты. Оставалось только снять отказавший ДЦН-76А и заменить его — работа, в нормальных условиях и днем требовавшая не менее 8 ч. Техникам Олегу Кузьмину и Александру Сергееву пришлось работать на морозе, в темноте и наощупь, торопясь отремонтировать машину. Аэродром обстреливался, о бетонку вокруг то и дело звонко шлепали пули, одна из которых тут же ударила в борт на свет включенного фонарика. К трем часам утра все было закончено, прогазован двигатель, проверены системы и герметичность топливных магистралей. Пара вырулила и ушла из Баграма. Восход солнца они встретили над Гиндукушем, а через час заходили на посадку в Мары. А последним из полка Баграм оставил солдат — водитель аэродромного «пускача». Запустив двигатели ожидавшего техников Ан-26, он направил в сторону свой «Урал», бросил на сиденье гранату и побежал к стоявшему на старте самолету. Истребители ушли из Афганистана.    После такой аварии истребитель №54 ремонту не подлежал  После снятия всех более-менее годных узлов 54-й борт был оставлен в Баграме  Ремонт истребителя №38 в ТЭЧ полка После дозаправки 120-й иап перелетел в Чирчик, где оставался в готовности еще полтора месяца на случай перехода оппозиции в наступление. Однако та не спешила со штурмом Кабула, продолжая привычную тактику обстрелов и диверсий, и 25 марта 120-й иап вернулся на базу в Домну. По итогам афганской эпопеи МиГ-23 показал себя надежной и выносливой машиной, доказав свою пригодность не только к выполнению истребительных задач («прикрышка» достаточно эффективно обеспечивала работу ВВС 40-й армии, предотвращая вероятное противодействие истребителей противника), но и ко всем «тяготам и лишениям» каждодневной службы — нанесению бомбовых и штурмовых ударов, минированию с воздуха и разведке. За пять месяцев службы завершавшего кампанию 120-го иап задачи распределились следующим образом: силами 37 имевшихся самолетов МиГ-23 было выполнено 5730 боевых вылетов, причем на долю 1-й эскадрильи пришлось 3950 вылетов и, соответственно, 2350 летных часов. Из них 3300 вылетов было выполнено на бомбардировки, в ходе которых сбросили 1300 т бомб, 529 — на прикрытие и 121 на разведку. Средняя интенсивность составляла 35-40 вылетов в смену с выработкой 25-30 т бомб, и даже в дежурном звене бывали дни, когда выполнялось до 16-18 вылетов. Шесть летчиков были удостоены орденов Красного Знамени, 30 отмечены орденами Красной Звезды. Качества МиГ-23 подтверждал анализ показателей надежности авиатехники, проводившийся инженерным отделом ВВС 40-й армии и 73-й ВА. В нелегких условиях МиГ-23 показал себя достаточно надежным и выносливым самолетом. Благодаря хорошей эксплуатационной пригодности самолета большинство работ при подготовке к полетам можно было выполнять с земли, без использования громоздких стремянок и подставок, что сокращало трудоемкость и продолжительность обслуживания. Обеспеченная в модификации МиГ-23МЛ надежность конструкции и основных агрегатов, в сочетании с продуманным устройством нуждающихся в обслуживании узлов, позволили существенно сократить трудозатраты на подготовку техники. При неизбежных мелких отказах, уследить за которыми не давал высокий темп работы и измотанность людей, проводивших на аэродромах 12-16 ч в сутки, боеготовность истребительных эскадрилий оставалась на уровне 93-94%. Причин, осложнявших эксплуатацию, было более чем достаточно: жара, плавившая и окислявшая смазку узлов и грозившая перегревом оборудования и закипанием аккумуляторов, постоянно висевшие в воздухе песок и пыль, проникавшие повсюду и истачивавшие узлы (при этом ветры с солончаков приносили едкую соляную пыль, приводившую к коррозии даже деталей, в обычных условиях считавшихся нержавеющими). Особенно досаждали пыль и грязь, засорявшие топливо (в тонне керосина набиралось до 0,5-1 кг всевозможного мусора). Через считанные часы забивались черной слизью фильтры, грозя отказами топливной автоматики, что заставляло их промывать через каждые 5-10 ч. Пыль и песок забивали шарниры, вели к износу подвижных соединений, ухудшали работу замков бомбодержателей, что приводило к заеданию их кинематики. Отказы случались из-за попадания пыли и песка в системы кондиционирования и управления воздухозаборниками, отложения засоряли жиклеры топливной автоматики, препятствуя нормальной работе двигателей, «горели» агрегаты электрооборудования, случалось, отказывал стартер.  Истребители 120-го иал покидают Афганистан Много хлопот вызывала теснота и перегруженность аэродромов, вместе со сложностью схемы посадки приводивших к перегреву тормозов, поломкам шасси, а «разувание» самолетов из-за лопнувших пневматиков, налетавших на приносимые ветром-«афганцем» на полосу камни, было обычным делом. Нарекания вызывало качество остекления фонаря МиГ-23, быстро желтевшего и терявшего прозрачность на солнце. В то же время неожиданно малым было число дефектов по аппаратуре авиаоборудования и электронике РЭО, на работе которых положительно сказывались сухой климат и регулярная эксплуатация (известно, что постоянная работа и присмотр положительно сказываются на надежности сложной техники, не в пример ее использованию от случая к случаю). Впрочем, есть и более прозаическое объяснение: как уже говорилось, МиГи преобладающим образом работали по наземным целям, для чего не требовалось использование всего комплекса бортового оборудования и находила применение лишь его малая часть. Вся сложная электроника обзорно-прицельной системы истребителя при нанесении бомбоштурмовых ударов не задействовалась, не включались ни радиолокационная станция, ни теплопеленгатор, ни командная линия наведения, как раз и приносившие наибольшую долю отказов и неполадок в эксплуатации истребительных частей дома. Для выполнения задач истребители обходились стрелковым прицелом, достаточно простым и надежным в работе, а то и управлялись вовсе без специального оборудования, выполняя бомбометание вручную визуальным образом. Соответственно, остававшееся невключенным оборудование не могло «испортить показатели» и цифры по надежности у истребителей выглядели получше, нежели у истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков. В противовес истребителям, на штурмовиках и истребителях-бомбардировщиках «лишнего» невключаемого оборудования не было, а имеющийся бортовой комплекс навигации и прицельная система как раз и служили для конкретных ударных задач. Те, в свою очередь, представляли собой набор достаточно сложной аппаратуры с инерциальной курсовертикалью, лазерным дальномером, доплеровским измерителем и аналоговым вычислителем, случавшиеся неисправности которых вносили свою долю в статистику надежности машины (оценить влияние их отказов можно уже по тому, что у штурмовиков на отказы прицельной системы приходились девять из десяти выявленных неисправностей). Летчики Су-17 и Су-25 практически всегда использовали имеющееся целевое оборудование в полном объеме, сообразно его назначению и преимуществам при выполнении боевых задач, однако и с сопутствующими работе сложной техники отказами. Типовые варианты вооружения МиГ-23 при работе в Афганистане  Истребители МиГ-23МЛД и МиГ-23УБ из состава 120-го ИАП МиГ-23МЛД из состава 905-го ИАП стали первыми истребителями этого типа, направленными в Афганистан в июле 1984 года МиГ-23МЛД из состава 190-го ИАП - самолет, получивший «пустынную» окраску при отправке в Афганистан Рисунки Виктора Мильяченко Автор В. Марковский
|
|
|
|
|
#14 |
|
|
Фоторепортаж. Су-25 в Афганистане.
 Работа для полка Су-25 на день - бомбы ФАБ-500М54 на бомбоскладе Баграма  Запуск двигателей Су-25 от аэродромного пускового агрегата (АПА)  Мощные и надежные ракеты С-24 входили в большинство вариантов снаряжения штурмовика 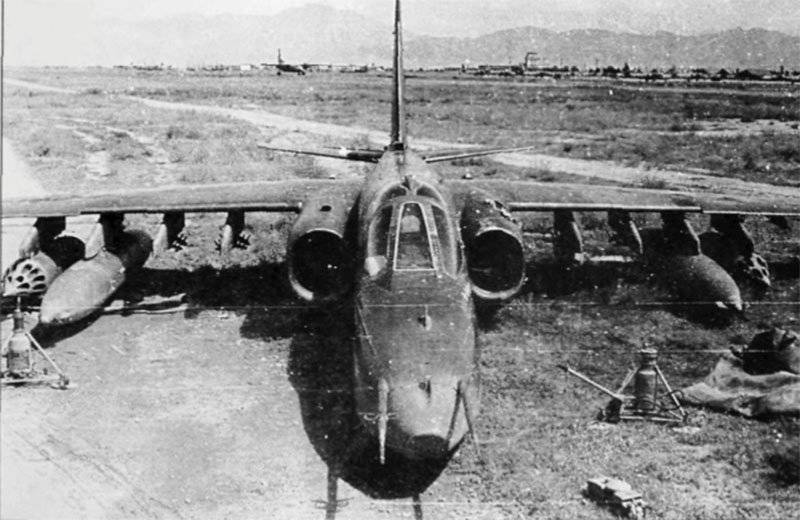  Штурмовики несли потери не только от огня противника (Су-25 майора А.Рыбакова, Кабул, 28 мая 1987 г.)...  ... но и при грубых посадках, вызванных большой скоростью и сложностью посадочного маневра (Баграм, 4 ноября 1988 г.)  При аварийных посадках прочный короб бронекабины Су-25 спасал летчика  Штурмовик выруливает на взлет по «мосткам» - настилу из металлических полос  Тормозные щитки, не убранные после посадки, становились настоящим бедствием для других самолетов -растопыренными «сандалетами» Су-25 то и дело сворачивали ПВД соседних машин  Ощетинившийся подвесками штурмовик пехота звала «расческой»  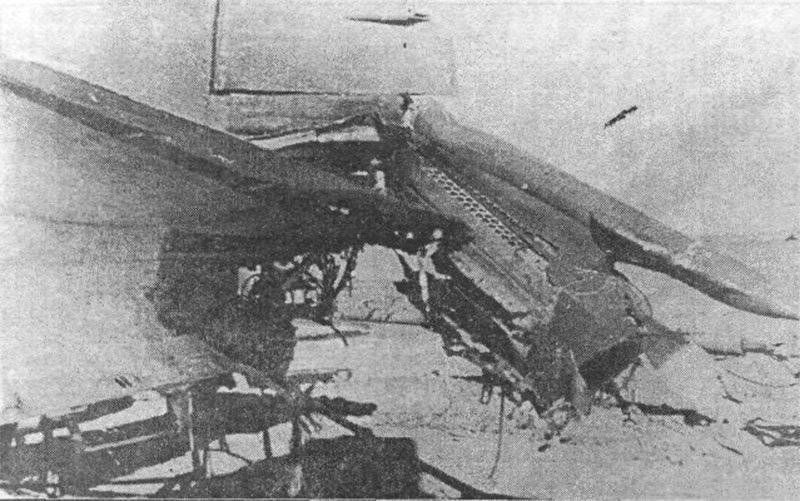 В основном «Стингеры» поражали хвостовую часть и двигатели штурмовиков. Зачастую Су-25 возвращались на аэродром с невероятными повреждениями 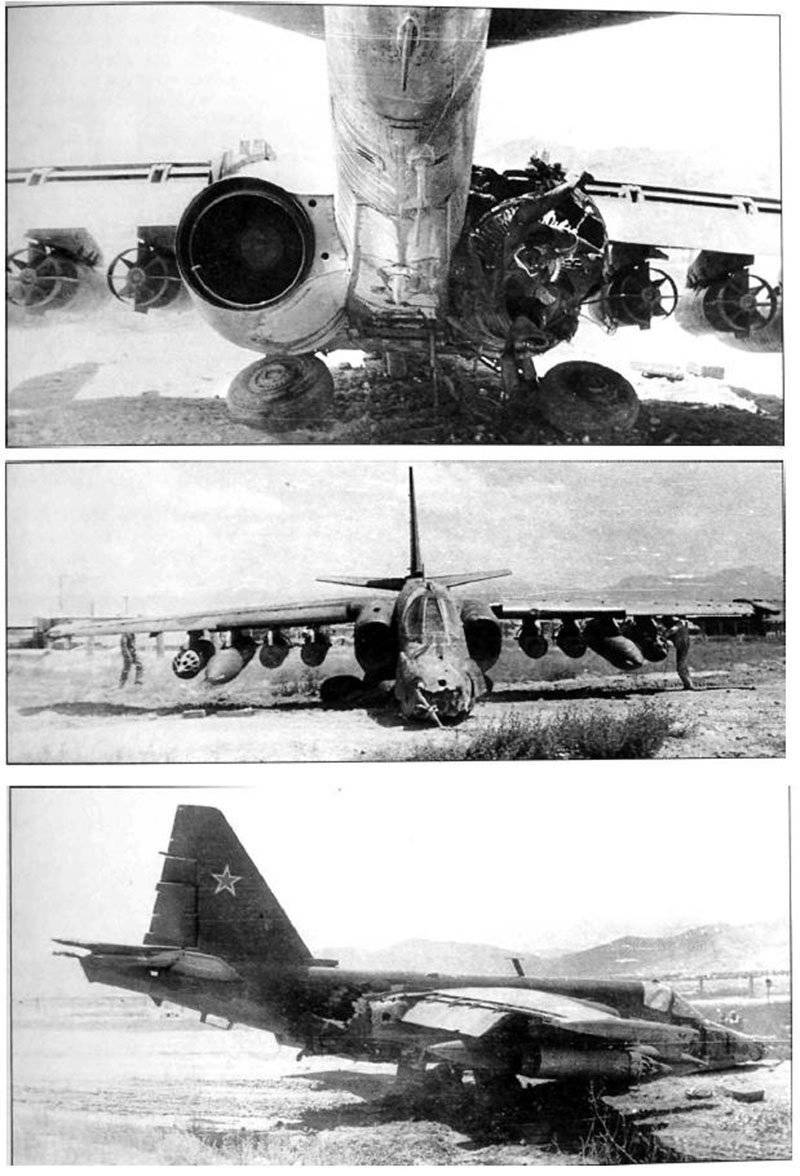 Пораженный «Стингером» Су-25 совершил посадку в Кабуле 28 июля 1987 г 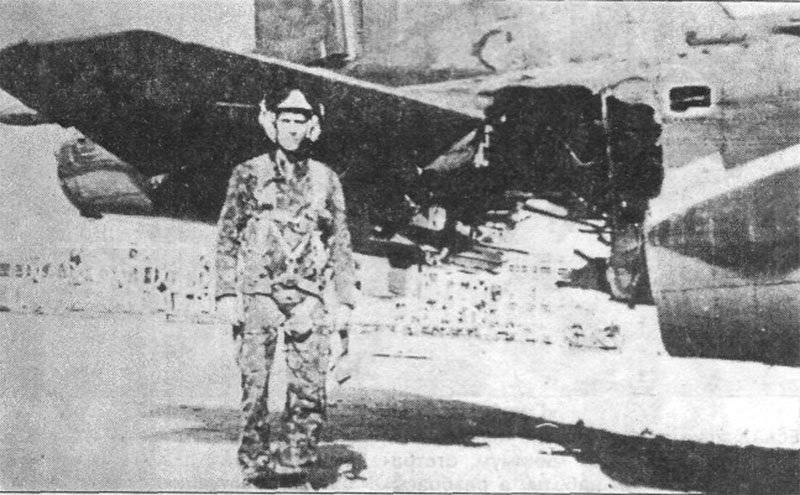 Лейтенант П.Голубцов после посадки на поврежденном самолете  Посадка группы штурмовиков происходила с минимальным интервалом между машинами. Один из Су-25 «разувается» на пробеге и выкатывается с полосы  «Грач» взлетает с ракетами С-24 |
|
|
|
|
#15 |
|
|
Ан-12 в Афганистане
Автор с признательностью благодарит за помощь, оказанную при подготовке публикации, информационную поддержку и предоставленные материалы И. Приходченко, майоров А. Артюха, В. Максименко, полковников С. Резниченко, А. Медведя, а также службу безопасности полетов ВТА и, особо, подполковника С. Пазынича за его деятельное участие в работе. В богатой разнообразными событиями истории Ан-12 афганской войне суждено было занять особое место. Афганистан стал обширной главой в биографии транспортника, насыщенной боевыми эпизодами, нелегкой работой и неизбежными потерями. Практически всякому участнику афганской войны так или иначе приходилось иметь дело с военно-транспортной авиацией и результатами работы транспортников. В итоге Ан-12 и афганская кампания оказались трудно представимы друг без друга: участие самолета в тамошних событиях началось еще до ввода советских войск и, затянувшись более чем на десятилетие, продолжалось и после ухода Советской Армии. Самым широким образом самолеты ВТА стали привлекаться к работе по Афганистану после произошедшей в стране Апрельской революции, имевшей место 11 апреля 1978 года (или 7 числа месяца саура 1357 года по местному лунному календарю - в стране, по здешнему летоисчислению, на дворе был 14-й век). Афганская революция носила свой особенный характер: при отсутствии в полуфеодальной стране революционных слоев (по марксистскому определению, к таковым может принадлежать только свободный от частной собственности пролетариат) совершать ее пришлось силами армии, причем одним из главных действующих лиц стал бывший главком ВВС Абдул Кадыр, отстраненный от должности прежней властью наследного принца Мохаммеда Дауда. Обладавший немалой личной отвагой и упрямством офицер, оказавшись не у дел, возглавил тайное общество Объединенный фронт коммунистов Афганистана, однако, будучи человеком до мозга костей военным, после «свержения деспотии» передал всю полноту власти более искушенным в политических делах местным партийцам из Народно-Демократической Партии Афганистана' (НДПА), а сам предпочел вернуться к привычному делу, заняв буквально завоеванный пост министра обороны в новом правительстве. Командующим ВВС и ПВО стал полковник Гулям Сахи, бывший начальником Баграмской авиабазы и немало поспособствовавший свержению прежнего режима, организуя удары своих авиаторов по «оплоту тирании» в столице. Пришедшие к власти в стране деятели НДПА, увлеченные идеями переустройства общества, занялись радикальными преобразованиями с целью скорейшего построения социализма, которого мыслилось достичь уже лет через пять. На деле оказалось, что совершить военный переворот было проще, чем управлять страной с ворохом экономических, национальных и социальных проблем. Столкнувшись с противостоянием приверженного традициям, укладу и религиозным устоям населения, планы революционеров стали приобретать насильственные формы. С давних времен известно, что благими намерениями выложена дорога в ад: насаждаемые реформы натыкались на неприятие народа, а директивная отмена многих заповедей и устоев становились для афганцев уже личным вмешательством, испокон веков здесь нетерпимым. Отчуждение народа от власти подавлялось новыми насильственными мерами: спустя считанные месяцы после Саурской революции начались публичные казни "реакционеров" и духовенства, репрессии и чистки приобрели массовый характер, захватив и многих вчерашних сторонников. Когда власти в сентябре 1978 года начали публиковать в газетах списки казненных, уже в первом числилось 12 тысяч имен, все больше видных в обществе людей из числа партийцев, купечества, интеллигенции и военных. Уже в августе 1978 года в числе других арестованных оказался и министр обороны Абдул Кадыр, тут же приговоренный к смертной казни (от этой участи его удалось избавить только после неоднократных обращений советского правительства, обеспокоенного чересчур разгулявшимся революционным процессом). Недовольство на местах быстро переросло в вооруженные выступления; вряд ли могло произойти иначе в неизбалованной благами стране, где честь считалась основным достоинством, преданность традициям была в крови и так же традиционно изрядная часть населения имела оружие, ценимое превыше достатка. Вооруженные стычки и мятежи в провинциях начались уже в июне 1978 года, к зиме приобрели уже системный характер, охватывая и центральные районы. Однако правительство, столь же привычно полагаясь на силу, старалось подавить их с помощью армии, широко используя авиацию и артиллерию для ударов по непокорным селениям. Некоторое отступление от демократических целей революции считалось тем более несущественным, что сопротивление недовольных носило очаговый характер, было разобщенным и, до поры до времени, немногочисленным, а сами мятежники виделись уничижительно-отсталыми со своими дедовскими ружьями и саблями. Истинный масштаб сопротивления и накал событий проявился уже спустя несколько месяцев. В марте 1979 года в Герате, третьем по величине городе страны и центре одноименной крупной провинции, вспыхнул антиправительственный мятеж, к которому самым активным образом примкнули части местного военного гарнизона вместе с командирами. На стороне властей остались всего несколько сот человек из 17-й пехотной дивизии, включая и 24 советских военных советника. Им удалось отойти к гератскому аэродрому и закрепиться, удерживая его в руках. Поскольку все склады и припасы оказались в руках восставших, снабжать остатки гарнизона пришлось по воздуху, доставляя на транспортных самолетах продукты питания, боеприпасы и подкрепления с аэродромов Кабула и Шинданда. Вместе с тем не исключалась опасность развития мятежа и охвата им новых провинций, ожидалось даже выступление бунтующей пехотной дивизии, насчитывавшей до 5000 штыков, на Кабул. Тамошние правители, ошарашенные происходящим, буквально бомбардировали советское правительство просьбами о срочной помощи как оружием, так и войсками. Не очень доверяя собственной армии, на поверку оказавшейся не столь надежной и приверженной делу революции, в Кабуле видели выход только в срочном привлечении частей Советской Армии, которые бы оказали помощь в подавлении гератского мятежа и защитили столицу. Чтобы помощь пришла побыстрее, советских солдат, опять-таки, следовало доставить транспортными самолетами. Зимой 1979 года аэропорт Кандагара выглядел мирным местом, откуда летали самолеты внутренних и международных рейсов. Пройдет совсем немного времени, и здание аэропорта будет испещрено следами от пуль и осколков Для советского правительства такой поворот событий имел вполне определенный резонанс: с одной стороны, антиправительственное вооруженное восстание происходило у самых южных границ, менее чем в сотне километров от приграничной Кушки, с другой — только что приобретенный союзник, столь громогласно декларировавший приверженность делу социализма, расписывался в полной своей беспомощности, несмотря на весьма солидную оказываемую ему помощь. В телефонном разговоре с афганским лидером Тараки 18 марта председатель Совмина СССР А.Н. Косыгин в ответ на жалобы того об отсутствии оружия, специалистов и офицерских кадров допытывался: «Можно понять так, что в Афганистане хорошо подготовленных военных кадров нет или их очень мало. В Советском Союзе прошли подготовку сотни афганских офицеров. Куда же они все делись?» Ввод советских войск тогда определили совершенно неприемлемым решением, в чем сошлось и руководство вооруженных сил, и партийное руководство страны. Л.И. Брежнев на заседании Политбюро ЦК КПСС рассудительно указал: «Нам сейчас не пристало втягиваться в эту войну». Однако афганским властям была оказана помощь всеми доступными мерами и способами, в первую очередь, -срочными поставками вооружения и военной техники, а также посылкой советников вплоть до самого высокого ранга, занимавшихся не только подготовкой тамошних военных, но и непосредственной разработкой оперативных планов и руководством в борьбе с оппозицией (об их уровне и внимании к проблеме можно судить по тому, что для помощи афганскому военному руководству неоднократно лично направлялся заместитель Министра Обороны Главком сухопутных войск генерал-полковник И.Г. Павловский). Для обеспечения срочности военных поставок была задействована ВТА, тем более что на этот счет имелось прямое правительственное указание, на Политбюро ЦК КПСС озвученное словами А.Н. Косыгина: «Дать всё сейчас и немедленно». Начался многолетний марафон транспортной авиации, без перерыва длившийся более десяти с лишним последующих лет. В большинстве своем при плановых поставках техника, боеприпасы и прочее поставлялись со складов и баз хранения, нередко ее приходилось брать непосредственно из частей, а при особой необходимости - прямо с заводов. Вышло так, что транспортная авиация играла важнейшую роль не только при поставках и снабжении - её присутствие так или иначе проецировалось практически на все события афганской компании, что делает уместным не только перечисление рейсов, груза и мест назначения, но и рассказ о сопутствовавших событиях политического и частного характера. Особую роль Ан-12 в полетах на афганском направлении диктовало само их преобладание в строю ВТА: к концу 1979 года самолеты этого типа составляли две трети общего авиапарка - Ан-12 насчитывалось 376 штук в десяти авиаполках, тогда как новейших Ил-76 было более чем вдвое меньше - 152, а Ан-22 - всего 57 единиц. В первую очередь к этим задачам привлекались экипажи местных авиатранспортных частей, располагавшихся на территории Туркестанского военного округа, - 194-го военно-транспортного авиаполка (втап) в Фергане и 111-го отдельного смешанного авиаполка (осап) в Ташкенте при штабе округа, где Ан-12 являлись самой мощной техникой. Аэродромы их базирования являлись ближайшими к «месту назначения», и доставляемые афганцам грузы через пару часов уже оказывались у получателя. Так, 18 марта были выполнены рейсы Ан-12 из Ташкента на аэродромы Кабула, Баграма и Шинданда, в последующие дни работали преимущественно Ил-76 и Ан-22, перевозившие тяжелую технику и бронемашины, однако 21 марта рейсами из Ташкента в Баграм прибыли четыре Ан-12, а из Карши - еще 19 Ан-12 с грузами. Проблема с Гератом при оказанной военной помощи в конце концов разрешилась силами переброшенного к городу батальона афганских «коммандос» и танкистов. Город оставался в руках восставших пять дней, после серии авиационных ударов мятежники рассеялись и к полудню 20 марта Герат вновь был в руках властей. Однако полностью проблем это не решило - гератская история явилась лишь «тревожным звонком», свидетельствовавшим о росте сил оппозиции. Весной и летом 1979 года вооруженные выступления охватили весь Афганистан - не проходило нескольких дней, чтобы не появлялись сообщения об очередных очагах мятежей, захвате селений и городов, восстаниях в гарнизонах и воинских частях и их переходе на сторону контрреволюции. Набрав силу, отряды оппозиции перерезали коммуникации к Хосту, блокировав центр провинции и тамошний гарнизон. При общей сложной ситуации на дорогах, крайне уязвимых при вылазках противника, единственным средством снабжения гарнизонов оставалась авиация, гарантировавшая также оперативность решения проблем снабжения. Однако при обилии задач собственные силы афганской транспортной авиации были довольно скромными: к лету 1979 года правительственные ВВС располагали девятью самолетами Ан-26 и пятью поршневыми Ил-14, а также восемью Ан-2. Подготовленных экипажей для них было и того меньше - шесть для Ан-26, четыре для Ил-14 и девять для Ан-2. Все транспортные машины были собраны в кабульском 373-м транспортном авиаполку (тап), где имелся также один аэрофотосъемщик Ан-30; афганцы как-то получили его для воздушного фотографирования местности в картографических целях, однако по первоначальному назначению он никогда не использовался, в основном стоял без дела и поднимался в воздух исключительно для пассажирских и транспортных перевозок. К воинским перевозкам привлекались также самолеты гражданских авиакомпаний «Ариана», работавшие на заграничных рейсах, и «Бахтар», обслуживавшие местные маршруты, однако и они не решали проблемы из-за ограниченности авиапарка и того же не очень ответственного отношения к делу. На этот счет прибывший в 373-й тап на должность советника при командире полка подполковник Валерий Петров оставил в своем дневнике колоритные замечания: «Летная подготовка слабая. Личный состав готовится к полетам неудовлетворительно. Любят только парадную сторону — я летчик! Самокритики — ноль, самомнение — большое. Летно-методическую работу надо начинать с ноля. Несобранные они, в глаза говорят одно, за глаза делают другое. Работать идут крайне неохотно. Состояние вверенной техники я оцениваю на два с плюсом». В отношении матчасти хроническими были толком не выполняемые подготовки техники, нарушения регламента и откровенно наплевательское отношение к обслуживанию машин. Работы выполнялись в большинстве своем спустя рукава, сплошь и рядом оказывались брошенными, недоделанными и все это при полной безответственности. Обычным делом являлись кое-как выпускаемые в полет самолеты с неисправностями, забытые тут и там инструменты и агрегаты, а также частое воровство с бортов аккумуляторов и прочих нужных в хозяйстве вещей, из-за чего сдача машин под охрану караулу имела целью не столько защиту от вылазок противника, сколько от хищений своими же. Одной из причин этого было быстро развившееся иждивенчество: при все более масштабных и практически дармовых поставках техники и имущества из Советского Союза о сколько-нибудь бережливом отношении к матчасти можно было не заботиться. Свидетельством тому была масса без сожаления списываемых по неисправности и бросаемых при малейшем повреждении машин (в 373-м тап в течение года одним лишь нерадивым летчиком Мирадином подряд были разбиты четыре самолета). Работа на технике, а то и выполнение боевых задач, все больше «передоверялись» советским специалистам и советникам, число которых в Вооруженных Силах Афганистана к середине 1979 года пришлось увеличить в четыре с лишним раза, до 1000 человек. Вопрос с транспортной авиацией оставался весьма насущным, поскольку авиаперевозки вместе с автомобильным транспортом были основными средствами сообщения в стране. Афганистан являлся довольно обширной страной, размерами побольше Франции, и расстояния, по здешним меркам, были немаленькими. В качестве отступления можно заметить, что расхожее мнение о том, будто в Афганистане отсутствовал железнодорожный транспорт, не вполне верно: формальным образом таковой в стране имелся, правда, вся длина железнодорожного пути составляла пять с небольшим километров и он являлся продолжением линии Среднеазиатской железной дороги, тянувшимся от приграничной Кушки к складам в Турагунди, служившим перевалочной базой для поставляемых советской стороной грузов (правда, «афганских железнодорожников» и здесь не водилось, и местные были заняты разве что в качестве грузчиков). Главенствующую роль в перевозках занимал автотранспорт, который на 80% находился в частном владении. При общем дефиците казенной автотехники обычной практикой было привлечение владельцев «бурбухаек», которых государство нанимало для транспортировки грузов, в том числе и военных, благо за хороший бакшиш те были готовы преодолеть любые горы и перевалы и пробиться к самым удаленным точкам. Снабжение воинских частей и гарнизонов частным образом, как и наличие при правительстве департамента частного транспорта, занимавшегося решением казенных проблем, для наших советников было не совсем привычным. Установившийся порядок решения транспортных вопросов был вполне удовлетворительным в мирное время, однако с обострением ситуации в стране оказался весьма уязвимым. Не было никакой уверенности, что грузы дойдут по назначению и не будут разграблены душманскими отрядами. Орудуя на дорогах, те препятствовали перевозкам, отбирали и уничтожали посылаемые провиант, топливо и прочие припасы, жгли машины непокорных, из-за чего запуганные водители отказывались брать госзаказы и военные грузы. Иные гарнизоны месяцами сидели без снабжения, а оголодавшие и обносившиеся солдаты разбегались или переходили к противнику и селения доставались тому без боя. Показательные цифры приводились советскими советниками при афганском военном ведомстве: при штатной численности афганской армии в 110 тыс. человек в строю к июню 1978 года насчитывалось только 70 тыс. военнослужащих, а к концу 1979 года их ряды и вовсе сократились до 40 тыс. человек, из них кадрового состава - 9 тыс. человек. При слаборазвитой дорожной сети в Афганистане роль воздушных перевозок становилась весьма значимой. В стране насчитывалось 35 аэродромов, пусть даже в большинстве своем не лучшего качества, однако полтора десятка из них вполне годились для полетов транспортных самолетов. Аэродромы Кабула, Баграма, Кандагара и Шинданда имели весьма приличные цельнолитые бетонные ВПП и должным образом оборудованные стоянки. Джелалабад и Кундуз располагали асфальтированными полосами, на прочих же «точках» приходилось работать с глинистого грунта и гравийных площадок. Обходясь без привлечения специальной строительной и дорожной техники, гравий кое-как укатывали танком, иногда скрепляя поливкой жидкого битума, и ВПП считалась готовой к приему самолетов. Несколько защищая от пыли, такое покрытие расплывалось в жару и покрывалось глубокими колеями от рулящих и взлетающих самолетов. Проблем добавляли высокогорье и сложные схемы захода, иногда односторонние, с возможностью подхода с единственного направления. Так, в Файзабаде заход на посадку приходилось строить по тянущемуся к аэродрому горному распадку, ориентируясь по излучине реки и выполняя на снижении крутой правый поворот, чтобы обогнуть перекрывавшую створ полосы гору. Садиться надо было с первого захода - прямо за торцом ВПП возвышалась следующая гора, не оставлявшая никакой возможности уйти на второй круг при неточном расчете. Провинциальный центр Лашкаргах на юге страны располагал вполне приличным по здешним меркам собственным аэродромом с грунтовой полосой Долина реки Аргандаб вблизи Кандагара. Речные русла, при ограниченности других ориентиров, служили весьма надежным подспорьем при решении штурманских задач Растущая потребность в авиаперевозках диктовалась также тем, что воздушный транспорт обеспечивал более-менее надежную доставку грузов и людей непосредственно в удаленные точки, избавляя от риска перехвата противником на дорогах. Кое-где авиатранспорт и вовсе становился практически единственным средством снабжения блокированных гарнизонов, отрезанных душманскими кордонами. С расширением боевых действий неоценимой становилась оперативность решения задач транспортной авиацией, способной без задержки перебросить воюющим частям требуемое, будь то боеприпасы, провиант, горючее или пополнение людьми - на войне, как нигде, применимо присловье «яичко дорого к христову дню» (хотя в восточной стране более уместно звучало замечание одного из героев «Белого солнца пустыни»: «Кинжал хорош для того, у кого он есть, и горе тому, у кого его не окажется в нужную минуту»). Заданий для правительственной транспортной авиации хватало с избытком: согласно записям подполковника В. Петрова о работе 373-го тап, в один только день 1 июля 1980 года силами полка, по плану, требовалось доставить в различные пункты назначения 453 человека и 46750 кг груза, обратными рейсами забирая раненых и встречных пассажиров. Одним из рейсов на Ан-30 прилетели сразу 64 человека из местных партийцев и военных, направлявшихся в столицу на пленум НДПА и набившихся в грузовую кабину под завязку, даром что самолет вообще не имел пассажирских мест. Доставка армейских грузов и военнослужащих перемежалась с коммерческими и пассажирскими перевозками, благо местный торговый люд, невзирая на революцию и войну, имел свои интересы и умел ладить с военными летчиками. Тот же В. Петров констатировал: «Сплошная анархия: кто хочет, тот и летит, кого хотят, того и везут». В полетах над протянувшимся на сотни километров однообразием гор полагаться приходилось прежде всего на приборы и другие средства инструментальной навигации Вертолетчик А. Бондарев, служивший в Газни, описывал такие перевозки «в интересах населения» самым живописным образом: «Летать они любили, потому что автобусы и машины регулярно грабили душманы. По воздуху добираться безопаснее, вот у аэродромного шлагбаума и собиралась толпа желающих улететь. Работая кулаками и локтями, используя всю свою хитрость, афганцы ломились поближе к самолету. Тогда солдат из охраны аэродрома давал над головами очередь. Толпа откатывалась, давя друг друга. Порядок восстанавливался. Афганский летчик набирал себе пассажиров и вел их на посадку, предварительно проверив вещи на предмет боеприпасов, оружия и прочего запретного. Чего обнаруживал - конфисковал, имевшееся у многих оружие полагалось сдавать и его складывали в кабине пилотов. Самых назойливых и тех, кто норовил не заплатить, лишали права лететь и те, получив пинка, удалялись с аэродрома. Прочие ломились на борт, будто бешеные. Я такое видел только в кино про двадцатые годы, как люди штурмуют поезд: лезут по головам, отталкивают и лупят друг друга, выпихивают из кабины. Пассажиров они брали, сколько влезет. Если набивалось слишком уж много, то летчики на глаз доводили число до нормы, выкидывая лишних вместе с их огромными чемоданами. Про чемоданы разговор особый, их надо видеть. Афганские чемоданы сделаны из оцинкованного железа и закрываются на навесные замки. А размеры имеют такие, что самому афганцу жить в нем можно или использовать как сарай» Генерал-лейтенанту И. Вертелко, прибывшему в Афганистан по делам Управления погранвойск, где он был заместителем начальника, однажды пришлось воспользоваться попутным афганским Ан-26, чтобы добраться из Кабула в Мазари-Шариф. Полет генерал описывал весьма колоритно: «Едва я зашел на борт самолета, как люк за моей спиной захлопнулся и я ощутил себя маленькой букашкой, оказавшейся в брюхе акулы. По характерным «ароматам» и скользкому полу понял, что до меня здесь перевозили животину. Когда самолет лег на курс, дверь пилотской кабины распахнулась, на пороге показался молоденький афганский летчик и стал что-то говорить, размахивая руками. Мне показалось, что афганец требует «магарыч» за оказанную услугу. Запустив руку во внутренний карман куртки, я извлек оттуда пару новеньких, хрустящих, еще хранящих запах краски «червонцев». Мои «красненькие» исчезли в руках афганца, как по мановению волшебной палочки, а он, приложив руки к груди в благодарственном жесте, произнес единственное слово: «Бакшиш?» - «Нет, - говорю, - сувенир». Хотя ему, наверное, был один черт, что бакшиш, что сувенир, главное - деньги в кармане. Едва закрылась дверь за спиной этого «гобсека», как на пороге появился другой летчик. Получив «свои» два червонца, он на ломаном русском языке пригласил меня пройти в кабину, переступив порог которой я оказался под прицелом пяти пар карих внимательных глаз. Чтобы как-то разрядить затянувшуюся паузу, раскрываю свой маленький походный чемоданчик и начинаю передавать в руки левому пилоту (правый держится за штурвал) содержимое: несколько банок консервов, палку сервелата, бутылку «Столичной». Из бумажника я выгреб все имеющиеся там наличные. Случайное совпадение, но и тем, кого не одарил раньше, досталось по два червонца. Летчики повеселели, разом заговорили, путая русские и афганские слова. Выяснилось, что тот, кто хорошо говорит по-русски, закончил училище в Союзе». Уместен вопрос, почему афганская транспортная авиация при таком спросе на перевозки ограничивалась эксплуатацией авиатехники легкого класса и не использовала Ан-12 — машины, распространенные и популярные не только в Советском Союзе, но и в полутора десятках других стран? До поры до времени в самолетах такого типа особой необходимости не ощущалось, да и местные условия не способствовали использованию достаточно крупной четырехмоторной машины. Основная номенклатура грузов для воздушных перевозок при будничном обеспечении армии не требовала самолета большой грузоподъемности: самыми габаритными и тяжелыми являлись двигатели к авиатехнике, представлявшие собой агрегаты весом до 1,5-2 т, прочие потребности также ограничивались уровнем не свыше 2-3 т. С такими задачами вполне справлялись Ан-26 (подобно тому, как у нас при городских перевозках самым востребованным грузовиком является «Газель»). К тому же двухмоторная машина была крайне неприхотлива к условиям местных аэродромов, благодаря небольшому весу и обладая возможностями короткого взлета и посадки, что было особенно ощутимо при работе в высокогорье и с коротких полос (20-тонный взлетный вес Ан-26 - это все же не 50 тонн у Ан-12!). Благодаря таким преимуществам Ан-26 мог летать практически со всех здешних аэродромов, не подходивших для более тяжелых самолетов. Невыгодным являлся Ан-12 и по дальности, здесь избыточной, поскольку большая часть рейсов выполнялась на «коротком плече». Афганистан при всей сложности местных условий и труднодоступности многих районов являлся «компактной» страной, где удаленность большинства населенных пунктов была понятием, скорее связанным с расположением, нежели с расстоянием, из-за чего жители многих селений, лежащих в горах у самого Кабула, не имели никаких сообщений с городом и в столице никогда не бывали. Находившийся на востоке страны Джелалабад отделяла от Кабула всего сотня километров, а самые дальние маршруты измерялись расстояниями в 450-550 км, покрываемыми самолетом за час полета. Когда для подавления гератского мятежа понадобились танки, то для совершения марша танковой части из Кандагара, лежавшего на другом конце страны, потребовалось немногим более суток. В таких условиях Ан-12, способный доставить десятитонный груз за три тысячи километров, постоянно приходилось бы гонять полупустым и для афганцев он представлялся на самой подходящей машиной. Положение стало меняться после апрельских событий. Чем глубже правительство и армия ввязывались в борьбу с оппозицией, стараясь погасить множившиеся вооруженные выступления, тем больше сил и средств для этого требовалось. Подавление мятежей, организация борьбы с душманскими отрядами, чистка провинций и снабжение провинциальных центров и гарнизонов нуждались в средствах обеспечения и доставки. Между тем именно этим задачам, по определению, и отвечала военно-транспортная авиация, основным назначением которой, помимо прочего, являлись перевозки по воздуху войск, вооружения, боеприпасов и материальных средств, обеспечение маневра частей и соединений, а также эвакуация раненых и больных. В специфичной афганской обстановке круг задач транспортников существенно расширялся еще и необходимостью доставки народнохозяйственных грузов, поскольку малочисленная гражданская авиация занималась преимущественно пассажирскими перевозками. Столкнувшись с проблемами, афганские власти буквально завалили советскую сторону призывами о помощи. Нужды Кабула были обильны и многочисленны, от поддержки продовольствием и топливом до все более масштабных поставок оружия и боеприпасов, являвшихся истинными предметами первой необходимости в революционном процессе. С завидной настойчивостью афганские власти требовали и присылки советских войск для борьбы с мятежниками, однако до поры до времени им в этом отказывалось. Таких просьб в адрес советского правительства было около 20, но и государственные деятели, и военные демонстрировали здравомыслие, указывая на неразумность ввязывания в чужую смуту. Объясняя нецелесообразность подобного решения, политики перечисляли всю пагубность последствий, руководство Минобороны указывало на «отсутствие оснований для ввода войск», начальник Генштаба Н.В. Огарков высказывался по-военному прямолинейно: «Никогда мы туда наши войска не пошлем. Бомбами и снарядами мы там порядок не установим». Но спустя считанные месяцы ситуация радикально и непоправимо изменится... Пока что для удовлетворения насущных транспортных потребностей афганским союзникам в самом срочном порядке были выделены 1500 грузовых автомобилей; соответствующее поручение Госплану СССР и Внешторгу было дано на заседании Политбюро ЦК КПСС 24 мая 1979 года вместе с решением о безвозмездных поставках «специмущества» - оружия и боеприпасов, которых хватило бы для оснащения целой армии. Однако в просьбе афганцев о «направлении в ДРА вертолетов и транспортных самолетов с советскими экипажами» вновь было отказано. Как оказалось, ненадолго: осложнявшаяся обстановка в стране подстегнула кабульских правителей, настаивавших на прямой угрозе «делу апрельской революции» и открыто спекулировавших на том, что «Советский Союз может потерять Афганистан» (понятно, что в этом случае Афганистан тут же оказался бы в лапах империалистов и их наёмников). Под таким нажимом позиция советского правительства стала меняться. Ввиду очевидной слабости афганской армии дело склонялось к тому, что одними только поставками оружия и припасов дело не обойдется. Поводом стали события вокруг блокированного Хоста, для снабжения которого в конце мая 1979 года главный военный советник Л.Н. Горелов запросил поддержку силами советской ВТА, на время перебросив в Афганистан эскадрилью Ан-12. Коль скоро к просьбам афганцев присоединился и голос представителя Минобороны, запрос постановили удовлетворить. Одновременно для охраны эскадрильи в неспокойной обстановке решили направить десантный батальон. Поскольку афганцы испытывали также острый недостаток вертолетов и, особенно, подготовленных экипажей для них, в распоряжение Кабула решили направить также транспортную вертолетную эскадрилью. Согласие удовлетворить просьбы афганских союзников носило очевидный характер уступки: настойчивость Кабула не оставалось без ответа, вместе с тем советская сторона «сохраняла лицо», дистанцируясь от ввязывания в афганские междоусобицы и участия непосредственно в боевых действиях; посылаемые транспортники -это все же не боевые самолеты, да и десантному батальону ставились задачи исключительно охранного толка (к тому же бойцы должны были безотлучно находится на территории базы). Выполнение правительственного распоряжения задержалось на целых два месяца по причинам совершенно субъективного характера. Техника имелась тут же под рукой: самолеты и вертолеты предоставлялись из состава находившихся на территории Туркестанского военного округа авиационных частей, Ан-12 - из ферганского 194-го втап, а Ми-8 - из дислоцированного в Кагане под Бухарой 280-го отдельного вертолетного полка. Части эти находились недалеко от границы и техника вместе с экипажами могла оказаться на месте назначения буквально в тот же день. Затруднения возникли с личным составом: поскольку требовалось сохранять в тайне появление в Афганистане советских воинских частей, пусть даже ограниченного состава, во избежание международных осложнений и обвинений в интервенции (многоопытный А.Н. Косыгин на этот счет замечал «Минусы у нас будут огромные, целый букет стран немедленно выступят против нас, а плюсов никаких для нас тут нет»). Из этих соображений самолеты должны были выглядеть гражданскими, а транспортно-боевые вертолеты при их защитной «военной» окраске следовало оснастить афганскими опознавательными знаками. Летный и технический состав решили задействовать из числа лиц восточного типа, уроженцев республик Средней Азии, дабы они внешне походили на афганских авиаторов, благо у тех летно-техническая форма была полностью советского образца и по «одежке» наши выглядели совершенно своими. Эту затею предлагали и сами афганцы - лидер страны Тараки просил «послать узбеков, таджиков в гражданской одежде и никто их не узнает, так как все эти народности имеются в Афганистане». Такие меры предосторожности могли бы показаться избыточной перестраховкой - не так давно в ходе чехословацкий событий в «в братскую страну» направили целую армию, не очень-то заботясь о впечатлении, производимом в мире. Однако с тех пор многое изменилось, Советский Союз гордился достижениями в области разрядки и значимостью в международных делах, претендуя на роль лидера прогрессивных сил, а страны третьего мира приобрели определенный вес в мире и с их мнением приходилось считаться. На этом снимке, к сожалению, не лучшего качества, запёчатлён санитарный Ан-26, прибывший в Баграм за ранеными. Самолет несет на борту эмблему Красного креста на белом поле для лучшей заметности Правда, с личным составом авиационных профессий дела были совершенно неудовлетворительными. Таковых нашлись буквально единицы. Летчиков собирали через ДОСААФ, а в Сызранском летном училище уже в марте 1979 года устроили специальный набор ускоренной подготовки для выходцев из Таджикистана. Также провели оргнабор в местных управлениях гражданской авиации, Душанбинском, Ташкентском и прочих, привлекая желающих небывало высокой зарплатой за тысячу рублей и повышением в должности до командиров экипажа после возвращения в ГВФ. В результате этих мер в 280-м вертолетном полку удалось сформировать нештатную 5-ю эскадрилью, так и прозванную «таджикской». Полностью укомплектовать ее «национальными» экипажами все равно не удалось, шестеро летчиков так и остались «белыми», из славян, как и комэска подполковник Владимир Бухарин, на должность которого ни одного туркмена или таджика найти не сумели. Штурманом эскадрильи стал старший лейтенант Зафар Уразов, прежде летавший на Ту-16. Добрая половина личного состава и вовсе не имела отношения к авиации, будучи набранной на переучивание из танкистов, связистов и саперов, имелся даже бывший подводник, щеголявший флотской черной формой. В конце концов, ввиду задержек с подготовкой «национальной» группы, вместо нее в Афганистан ушла штатная третья эскадрилья полка под началом подполковника А. А. Белова. Вертолетная эскадрилья, насчитывавшая 12 Ми-8, прибыла к месту дислокации в Баграм 21 августа 1979 года. Для ее переброски вместе с техсоставом и многочисленным авиационно-техническим имуществом понадобилось выполнить 24 рейса Ан-12 и 4 - Ил-76. С военно-транспортной эскадрильей таких проблем не возникло - Ан-12 с их «аэрофлотовской» маркировкой выглядели вполне пристойно и отбыли к месту командировки раньше остальных. У транспортников 194-го втап удалось соблюсти даже «национальный ценз», подыскав на должность командира эскадрильи подполковника Маматова, которого затем сменил подполковник Шамиль Хазиевич Ишмуратов. Его заместителем был назначен майор Рафаэль Гирфанов. Отдельная военно-транспортная эскадрилья, получившая наименование 200-я отдельная транспортная эскадрилья (отаэ), прибыла в Афганистан уже 14 июня 1979 года. Она включала восемь самолетов Ан-12 с экипажами гв. майоров Р. Гирфанова, О. Кожевникова, Ю. Заикина, гв. капитанов А. Безлепкина, Н. Антамонова, Н. Бредихина, В. Горячева и Н. Кондрушина. Вся авиагруппа подчинялась главному военному советнику в ДРА и имела целью выполнение задач по заявкам советнического аппарата в интересах афганских государственных и военных органов. Вот как описывал ту командировку один из ее участников В. Горячев, в ту пору - капитан, командир экипажа Ан-12: «14 июня наша группа (по легенде, это был отряд ГВФ из Внуковского аэропорта), перелетела в Афганистан, на аэродром Баграм. В группу были отобраны самолёты с гражданскими регистрационными номерами (в полку большая часть самолётов имела именно такие номера). На этих машинах сняли пушки. Все они были оборудованы подпольными баками. Отсюда, с аэродрома Баграм, мы выполняли перевозки личного состава, вооружения и других грузов в интересах афганской армии. Летом летали в основном в окружённый Хост (2 раза в неделю). Обычно перевозили солдат (и туда, и обратно), боеприпасы, муку, сахар, др. продукты. Эти полёты для блокированного мятежниками Хоста были очень важны. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Ан-12 рассчитан максимум на 90 десантников. Реально же тогда там в самолёты "набивалось" иногда до 150 афганцев. И лететь им зачастую приходилось стоя. И, тем не менее, командир гарнизона Хост был очень благодарен за подобные рейсы. Возможность смены личного состава благоприятно влияла как на физическое состояние, так и на моральный дух его подчиненных. Предполагалось, что пребывание экипажей «группы Ишмуратова» в Афганистане продлится три месяца. Но потом срок нашей командировки увеличили до шести месяцев. А затем начался ввод войск и какое-то время менять нас не было смысла, да и возможности. Часто приходилось летать в Мазари-Шариф, куда из Хайратона на грузовиках доставляли боеприпасы. Мы их затем развозили по всему Афганистану. Летали также и в Кабул, и в Шинданд, и в Кандагар. Реже приходилось бывать в Герате, и еще реже - в Кундузе. Потерь в обеих командировках отряд не понёс». Размещение транспортников на военной базе Баграм вместо столичного аэродрома имело свои доводы. Прежде всего, преследовались все те же цели маскировки присутствия советских военных, прибывших достаточно многочисленным составом — две эскадрильи и батальон десантников из ферганского 345-го отдельного парашютно-десантного полка для их охраны насчитывали под тысячу человек, появление которых в международном аэропорту Кабула неминуемо привлекло бы внимание и вызвало нежелательную огласку. «За забором» военно-воздушной базы они находились подальше от чужих глаз, не говоря уже об иностранных наблюдателях и вездесущих журналистах (в Кабуле тогда работали больше 2000 западных репортеров, не без оснований подозревавшихся и в разведывательной деятельности). Похоже, что те и в самом деле ни сном, ни духом не ведали о появлении в Афганистане советских авиаторов и десантников, поскольку ни пресса, ни западные аналитики их присутствия все эти месяцы не отмечали. Имели место и другие соображения: в начале августа кабульская зона стала неспокойным местом - в столичном гарнизоне произошли вооруженные выступления армейцев, а неподалеку в Пактике оппозиция настолько окрепла, что нанесла поражение находившимся там правительственным частям; поговаривали и о готовящемся походе мятежников на Кабул. Советский посол A.M. Пузанов в эти дни докладывал даже о «возникшей опасности захвата аэродрома под Кабулом». Хорошо защищенная военная база Баграм с многочисленным гарнизоном в этом отношении представлялась более надежным местом. Со временем для самолетов военно-транспортной эскадрильи была оборудована своя индивидуальная стоянка, расположенная в самом центре аэродрома, в непосредственной близости от ВПП. В итоге сложилось так, что первыми из состава советских вооруженных сил в Афганистане оказались именно транспортники и прибывшие для их охраны десантники. Хотя в патриотически настроенной отечественной прессе давно уже муссируется мнение о неправомерности сравнения афганской кампании с вьетнамской войной с привлечением многочисленных доводов относительно того, что выполнение интернационального долга не имело ничего общего с агрессивной политикой империализма, определенные параллели в их истории, что называется, напрашиваются сами. Американцы еще за несколько лет до посылки во Вьетнам армии столкнулись с необходимостью поддержки своих военных советников и специальных сил вертолетными подразделениями и транспортными самолетами, необходимыми для обеспечения их деятельности, выполнения снабженческих и прочих задач. Неумолимая логика войны с расширением масштабов конфликта вскоре потребовала привлечения ударной авиации, а затем и стратегических бомбардировщиков. В Афганистане события развивались еще динамичнее, и вместе с вводом советских войск через считанные месяцы были задействована фронтовая авиация с привлечением всех ее родов, от истребителей и разведчиков до ударных сил истребителей-бомбардировщиков и фронтовых бомбардировщиков, тут же вовлеченных в боевую работу. Транспортную эскадрилью буквально с первых дней привлекли к работе. Все задания поступали по линии Главного военного советника, аппарат которого все увеличивался, и советские офицеры присутствовали уже практически во всех частях и соединения афганской армии. Воздушный транспорт обеспечивал более-менее надежное снабжение удаленных районов и гарнизонов, поскольку к этому времени, как информировало советское посольство, «под контролем отрядов и других формирований оппозиции (или вне контроля правительства) находится около 70% афганской территории, то есть практически вся сельская местность». Называлась и другая цифра: в результате отсутствия безопасности на дорогах, которые «контрреволюция избрала одной из главных своих мишеней», среднесуточный вывоз поставляемых советской стороной грузов из приграничных пунктов к концу 1979 года сократился в 10 раз. Вид на авиабазу Баграма, снятый с борта самолета-разведчика. В самом центре аэродрома хорошо видна отдельная стоянка транспортников Задач у транспортников было более чем достаточно: за одну только неделю работы в период обострения обстановки с 24 по 30 августа 1979 года были выполнены 53 рейса Ан-12 - вдвое больше, чем сделали афганские Ил-14. По налету Ан-12 уступали в эти месяцы только вездесущим Ан-26, универсальность которых позволяла использовать их при сообщениях практически со всеми аэродромами, тогда как для полетов тяжелых Ан-12 подходили только десять из них. Набирала силу и другая тенденция - стремление афганцев переложить решение задач на вовремя появившегося более сильного партнера, подтверждением чему были не прекращавшиеся и все множившиеся просьбы о посылке советских войск или хотя бы милицейских формирований, которые взяли бы на себя тяготы борьбы с оппозицией. Эти же черты характера отмечались при работе с афганскими военными со стороны советских инструкторов, обращавших внимание на такие особенности поведения местного контингента (такие «портреты» составлялись по рекомендации военно-авиационной медицины для оптимизации отношений с национальным личным составом): «Неисполнительны, отношение к службе снижается при столкновении с трудностями. В сложных ситуациях пассивны и скованы, суетливы, ухудшается логичность мышления, несамостоятельны и ищут помощи. К старшим и тем, от кого зависят, могут проявлять угодливость и предлагать подарки. Любят подчеркивать свое положение, но не самокритичны и не самостоятельны. Склонны к спекуляции вещами». Нетрудно заметить, что эта характеристика, относившаяся к обучаемому военному персоналу, в полной мере описывала и деятельность «группы руководства», пришедшей к власти в стране. Между тем «революционный Афганистан» все больше превращался в обычную деспотию. Расправы с недовольными и вчерашними сподвижниками, растущее число беженцев в соседние Иран и Пакистан, непрекращающиеся мятежи в провинциях стали обыденностью. Несправедливость и репрессии привели к бунтам пуштунских племен, воинственной и независимой народности, выходцы из которой традиционно являлись основной госаппарата и армии, а теперь на долгие годы становились опорой вооруженного сопротивления, массовости которому прибавляю и то, что пуштуны составляли большую часть населения страны (в тех же традициях пуштуны никогда не платили налогов, сохраняли права на владение оружием, а добрая треть мужчин постоянно состояла в племенных вооруженных формированиях). В ответ власти прибегли к бомбардировкам непокорных селений и карательным действиям войск на независимых ранее пуштунских территориях. Боинг-727, купленный в США для афганского лидера Амина, сыграл в судьбе президента неблаговидную роль, дав советскому руководству повод подозревать того в заигрывании с американцами После смены власти президентский Боинг-727 служил в афганской авиакомпании «Ариана», работавшей на зарубежных линиях «Революционный процесс» в Афганистане шел своим ходом (читатели наверняка помнят популярную тогда на нашем радио песню «Есть у революции начало, нет у революции конца»), В результате обострения розни между недавними соратниками в октябре 1979 года были устранен недавний вождь революции Hyp Мухаммед Тараки. Генерального секретаря НДПА, считавшего себя фигурой мирового масштаба, никак не ниже Ленина или хотя бы Мао Цзэдуна, не спасли заслуги и самомнение — вчерашние сподвижники задушили его подушками, не пощадив и семью, брошенную в тюрьму. Накануне для охраны Тараки в кабул собирались перебросить «мусульманский батальон» майора Халбоева. Спецназовцы уже сидели в самолетах, когда поступила команда об отбое. Начальство все еще надеялось уладить афганский кризис местными средствами, полагаясь на «здоровые силы» в НДПА. Однако буквально через пару дней Тараки был лишен всех постов, обвинен во всех смертных грехах и заключен в тюрьму с подачи ближайшего товарища по партии - главы правительства и военного министра Амина. Десантникам вновь была поставлена задача вылететь для спасения главы дружественной страны, однако Амин предусмотрительно велел с 15 сентября полностью закрыть кабульский аэродром. В ответ на обращение к начальнику афганского генштаба генералу Якубу о приемке спецборта с десантной группой тот ответил, что Амином дана команда сбивать всякий самолет, прибывший без согласования с ним. Взявший власть в свои руки Хафизулла Амин, деятель жестокий и ушлый, продолжал славословия о советско-афганской дружбе и, не очень-то доверяя собственному окружению, вновь выражал пожелания о направлении в Афганистан частей Советской Армии (как показали последующие события, в этом он преуспел — на свою же голову...). Настаивая на посылке советских войск, все чаще приводились доводы о том, что непорядки в стране инспирированы зарубежным вмешательством реакционных сил. Тем самым конфликт приобретал идеологическую окраску, и уступка в нем выглядела проигрышем Западу, тем более непростимым, что речь шла о потере дружественной страны из ближайшего окружения СССР, с пугающей перспективой появления там вездесущих американцев с их войсками, ракетами и военными базами. Такая картина полностью укладывалась в господствующую схему о противоборстве социализма и агрессивного империализма, экспансия которого по всему земному шару была популярной темой отечественной пропаганды, политических плакатов и карикатур. Масла в огонь подлили сообщения о замеченных контактах Амина с американцами. Свидетельством тому сочли даже внезапный отказ Амина от пользования личным самолетом советского производства, взамен которого в США купили «Боинг-727» с нанятым американским экипажем. Само появление американских летчиков и технической группы на столичном аэродроме вызвало тревогу - не было сомнений, что под их видом скрываются агенты спецслужб. Амин поспешил объяснить, что самолет этот получен в счет ранее замороженных вкладов в американских банках, дело это временное, «Боинг» вскоре сдадут в аренду Индии, а афганское руководство, как и прежде, будет пользоваться советскими самолетами. Так или иначе, но подозрения в адрес Амина усилились и принятые на его счет решения самым непосредственным образом затронули как его самого, так и деятельность советской транспортной эскадрильи. Перемены в верхушке Афганистана вскоре сказались и на отношении к афганской проблеме. В позиции советского руководства недавнее почти единогласное нежелание ввязываться в тамошние распри сменилось на потребность предпринять силовые действия, посодействовав «народной власти» и избавившись от одиозных фигур в Кабуле. Люди из окружения Л.И. Брежнева указывали, что на чувствительного генсека произвела тягостное впечатление смерть Тараки. Узнав о расправе с Тараки, которому он благоволил, Брежнев был крайне расстроен, потребовав решительных мер в отношении водившего его за нос Амина. В течение последующей пары месяцев была приведена в действие вся военная машина и подготовлен план мер по разрешению афганского вопроса. База транспортников в Баграме неожиданным образом оказалась вовлеченной в события большой политики. Именно она была использована при начавшейся реализации плана переброски отдельных советских подразделений и спецгрупп в Афганистан, предусмотренного на случай того самого «резкого обострения обстановки». Формальным образом они направлялись по согласованию с просьбами самих афганцев, имея целью усиление охраны особо важных объектов, включая саму авиабазу, советское посольство и резиденцию главы государства, другие прибывали без особой огласки и с задачами менее явного характера. Именно база транспортников стала местом размещения спецназовского отряда, которому предстояло сыграть главенствующую роль в последовавших вскоре событиях (к слову, сам Амин успел еще предложить, чтобы советская сторона «могла иметь воинские гарнизоны в тех местах, в которых сама пожелает»). В последующих событиях транспортная авиация сыграла роль не менее важную, чем получившие известность действия десантников и спецназа. Перебазирование «мусульманского батальона» спецназа ГРУ под командованием майора Хабиба Халбаева осуществили 10-12 ноября 1979 года, перебросив его с аэродромов Чирчик и Ташкент самолетами ВТА. Вся тяжелая техника, БТР и БМП, были перевезены на Ан-22 из состава 12-й военно-транспортной авиадивизии; личный состав, а также имущество и средства обеспечения, включая жилые палатки, сухие пайки и даже дрова, доставили на Ан-12. Все офицеры и солдаты были одеты в афганскую форму и внешне не отличались от афганских военных. Единообразие нарушал разве что командир роты зенитных «Шилок» капитан Паутов, украинец по национальности, правда, он был темноволос и, как удовлетворенно заметил руководивший операцией полковник В. Колесник, «терялся в общей массе, когда молчал». С помощью тех же Ан-12 следующие недели осуществлялось все обеспечение батальона и связь с остававшимся в Союзе командованием, не раз прилетавшим в Баграм. Обосновавшись на месте, батальон занялся тренировками в ожидании команды на выполнение «главной задачи», до поры до времени не конкретизировавшейся. Еще два подразделения были переброшены в Баграм 3 и 14 декабря 1979 года. Вместе с ними 14 декабря в Афганистан нелегально прибыл Бабрак Кармаль и несколько других будущих руководителей страны. Кармаль, которому предстояло стать новым главой страны, был доставлен на борту Ан-12 и скрытно размещен на Баграмской авиабазе под охраной советских военных. Новоиспеченный афганский лидер обещал привлечь не менее 500 своих сторонников в помощь спецназу, для чего транспортной авиацией на базу организовали доставку оружия и боеприпасов. Пришел по его зову только один... Приведенный исторический экскурс в прелюдию афганской войны представляется тем более обоснованным, что во всех этих событиях самым непосредственным образом оказывалось задействованной транспортная авиация, выступавшая на первых ролях. С принятием решения на проведение спецоперации, ответственный за нее полковник В. Колесник утром 18 декабря вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский. Маршрут пролетал через Баку и Термез; приграничный Термез, вместо обычного перевалочного аэродрома Ташкента, где располагался штаб ТуркВО, возник на маршруте в связи с тем, что в этом городе с 14 декабря обосновалась оперативная группа МО СССР, образованная для координации всех действий по вводу войск в Афганистан и возглавляемая первым заместителем начальника Генштаба генералом армии С.Ф. Ахромеевым. В полете возникли неполадки в оборудовании, из-за чего пришлось искать другой самолет и последнюю часть пути преодолеть уже на местном Ан-12, который поздно вечером прибыл в Баграм. За два дня до этого распоряжением ГШ ВС СССР было образовано и приведено в полную боевую готовность полевое управление сформированной для ввода в Афганистан 40-й армии. Основу ее составили соединения и части, дислоцированные в Туркестанском и Среднеазиатском военных округах, преимущественно скадрированные, т.е. располагавшие штатным вооружением и техникой, но минимально укомплектованные личным составом (по существу, это был резерв материально-технического обеспечения мирного времени, при необходимости доукомплектовывавшийся до штатной численности призывом солдат и офицеров запаса). Естественным образом вошедшие в состав армии части и соединения имели здешнюю «прописку» из ТуркВО и САВО, и личный состав для их развертывания привлекался из числа местных жителей путем предусмотренного мобилизационными планами призыва через военкоматы. С этой целью из запаса были призваны более 50 тысяч солдат и офицеров. Такой вариант непосредственным образом предусматривался мобилизационными планами на случай военного времени или обострения обстановки, позволяя оперативно развернуть воинские формирования. По замыслу, сразу после призыва военнообязанных необходимых военных специальностей и их прибытия в близлежащие приписные части тем достаточно было получить обмундирование, оружие и занять места на технике, чтобы едва ли не сразу быть готовыми к выполнению поставленных задач. Со временем получила хождение версия о том, что солдаты преимущественно среднеазиатских национальностей призывались с умыслом скрыть факт ввода войск, «замаскировав» появление в соседней стране целой армии. К примеру, в книге американского автора Марка Урбана «Война в Афганистане», считающейся на Западе классическим трудом по этой теме, говорится: «Советы были уверены, что местный призыв сохранит в тайне подготовку к боевым действиям». Проницательность подводит западных и отечественных аналитиков: достаточно заметить, что солдаты и офицеры, пусть даже «восточного призыва», одеты были в советскую военную форму, не оставлявшую сомнений в их принадлежности, не говоря уже о последовавшем через несколько дней заявлении ТАСС об «оказании военной помощи Афганистану», правда, с извиняющей оговоркой «о неоднократных просьбах правительства ДРА». Формирование армейского объединения на основе частей и соединений местных военных округов было наиболее обоснованным и, со всей очевидностью, скорым и «экономичным» способом создания «экспедиционного корпуса» советских войск. Всего в период с 15 по 31 декабря 1979 года в соответствии с директивами Генштаба ВС СССР были отмобилизованы и приведены в полную боевую готовность 55 соединений, частей и учреждений, вошедших в штатный комплект 40-й армии. Приведение войск в полную боевую готовность следовало осуществить в предельно сжатые сроки, диктовавшиеся, согласно указанию Генштаба, «накаливанием военно-политической обстановки и острой борьбой за инициативу». На время осуществления мобилизации «первым эшелоном» выступали части постоянной готовности, несущие боевое дежурство: пограничники, органы управления, связи, части ВДВ и ВВС, а также всех видов обеспечения. Непременным образом ответственная роль возлагалась на ВТА, в задачи которой входило обеспечение и переброска войск. Решение о вводе войск в Афганистан было доведено до руководящего состава Министром обороны на совещании 24 декабря 1979 года. Ан-12БК на стоянке Баграмского аэродрома Как известно, решение о вводе войск в Афганистан было доведено до руководящего состава Министром обороны на совещании 24 декабря 1979 года. На следующий день, 25 декабря 1979 года, устное указание было подтверждено директивой МО СССР. Но оживленная работа ВТА началась еще в начале декабря, когда согласно устного указания Д.Ф.Устинова началось отмобилизовывание войск, а также переброска в ТуркВО ряда частей, в первую очередь,- воздушно-десантных. Воздушно-десантным частям, как наиболее мобильному и боеготовому виду войск, надлежало сыграть в операции ведущую роль, заняв ключевые объекты в афганской столице и центральных районах еще до подхода основной массы войск. 10 декабря было приказано привести в повышенную готовность витебскую 103-ю воздушно-десантную дивизию, сосредоточив силы и средства на аэродромах погрузки во Пскове и Витебске, 11 декабря - привести в повышенную готовность пять дивизий ВТА и три отдельных полка. Тем самым к операции привлекались практически полностью имевшиеся в составе ВТА силы, включая все пять имевшихся тогда военно-транспортных объединений - 3-ю гв. Смоленскую втад в Витебске, 6-ю гв. Запорожскую Краснознаменную втад в Кривом Роге, 7-ю втад в Мелитополе, 12-ю Мгинскую Краснознаменную втад в Калинине и 18-ю Таганрогскую Краснознаменную втад в Паневежисе, а также три отдельных авиаполка - 194-й в Фергане, 708-й в Кировабаде и 930-й в Завитинске (все - на Ан-12). При формировании авиатранспортной группировки задействовали даже самолеты инструкторских эскадрилий Ивановского 610-го учебного центра, из состава которых привлекли 14 Ан-12 (почти все находившиеся на базе) и три Ил-76 (из дюжины имевшихся). В одном из этих соединений, 12-й втад, были сосредоточены все имевшиеся в строю Ан-22 в количестве 57 штук. Остальные частично успели перевооружить новейшими Ил-76, которых насчитывалось 152, однако далеко не все они были должным образом освоены личным составом. Основные силы ВТА, составлявшие две трети самолетного парка, были представлены Ан-12. Помимо десантников, с помощью воздушного транспорта надлежало произвести переброску групп управления, связи и авиационно-технического обеспечения. Приведенная в действие военная машина всё это время нуждалась в массовых перевозках для переброски тысяч человек и единиц боевой техники. Оперативность задач потребовала задействовать многие полки ВТА, экипажам которых с ходу пришлось включиться в боевую работу. Вовлечение в операцию большого числа самолетов и резко возросшая интенсивность вылетов не обошлись без происшествий. При промежуточной посадке на приграничном аэродроме Кокайты 9 декабря пострадал Ан-12БК, вышедший из строя. Экипаж капитана А. Тихова из криворожского 363-го втап выполнял задание по перевозке с ремзавода самолета Су-7 для афганских ВВС. Нарушив установленную схему посадки на аэродром, к тому же в подступавшей ночной темноте, летчики стали заходить на него с прямой и задели оказавшуюся прямо по курсу гору двухкилометровой высоты. Экипаж, что называется, родился в рубашке: прочесав брюхом по вершине, задев ее винтом крайнего левого двигателя и оставив на месте некоторые детали, самолет все же мог продолжать полет. Уже на снижении выяснилось, что не выходит носовая стойка шасси и выбивает масло из крайнего правого двигателя, который также пришлось выключить. Посадку произвели на две основные стойки на грунтовую запасную ВПП. Ни груз, ни люди на борту не пострадали, однако машина была изрядно повреждена: обшивка по нижней части фюзеляжа смята и порвана, разорваны трубопроводы гидросистемы, вышли из строя два двигателя. Ремонтные работы по машине потребовали такого объема трудозатрат, что затянулись до конца следующего года. В тот же день 9 декабря при перелете из Чирчика в Ташкент разбился еще один Ан-12АП, на борту которого, помимо экипажа, были двое специалистов, летевших на расследование поломки. В Ташкенте предстояло забрать представителей службы безопасности полетов из штаба армии и следовать дальше к месту происшествия. Весь перелет до Ташкента протяженностью от силы 30 км должен был занять считанные минуты, и экипажу не требовалось набирать сколько-нибудь приличную высоту. После взлета, произведенного уже в ночное время, командир экипажа старший лейтенант Ю.Н. Греков занял эшелон 500 м, связался с аэродромом Ташкента и стал строить заход на посадку. Не очень опытный летчик, только вводившийся в строй и летевший с чужим экипажем, не имел достаточных навыков полетов в горной местности. Допустив сходную ошибку и нарушив схему выхода из зоны аэродрома вылета, он поторопился с установкой высотомера на аэродром посадки, лежавший в низине. Находясь в уверенности, что имеется запас высоты, при маневрировании на снижении, уже в видимости Ташкента, летчик вывел самолет прямо на одну из вершин Чимганского хребта, возвышавшуюся почти на километр. При столкновении с горой самолет развалился и загорелся, в катастрофе погибли все находившиеся на борту. Самолет и экипаж принадлежали 37-му втап с юга Украины. Вместе с остальными накануне он был переброшен к афганской границе, и беда подстерегла его за тысячи километров от родных краев... На первом этапе ввода советских войск ставилась задача захвата аэродромов Кабула и Баграма со взятием под контроль административных и прочих важных объектов, осуществлявшимся силами ВДВ и спецназа. Как и предусматривалось, в 15.00 московского времени 25 декабря 1979 года началась переброска по воздуху десанта с наземной высадкой на аэродромы Кабула и Баграма. Предварительно на собравшемся в Кабульском аэропорту совещании советских советников был проведен инструктаж и поставлены указания - воспрепятствовать в закрепленных за ними афганских воинских частях возможному противодействию и враждебным акциям против прибывающих советских войск (Восток - дело тонкое, хотя верхушка афганского правительства и просила об их вводе, не исключались выступления на местах и вооруженные выпады не посвященных в большую политику армейцев). Для предотвращения обстрелов десанта и садящихся самолетов на аэродромах решили не ограничиваться разъяснениями среди афганских военных, а принять радикальные меры — снять с зенитных установок прицелы и замки и изъять ключи от хранящихся боеприпасов. Поскольку отношения с афганскими военнослужащими носили, по большей части, нормальный и доверительный характер, эти действия удалось осуществить без особых эксцессов. В числе воинских частей Баграма находился военный авиаремонтный завод с достаточно многочисленным штатом из афганцев-военных (к слову, располагался он рядом со стоянкой советских транспортников). Советником при его начальнике был полковник В.В. Пацко, рассказывавший: «Нас, советских, на этом заводе было всего двое: я и советник главного инженера. И вот мы по нашим советническим каналам получаем информацию, что наши войска вошли в Афганистан и перед нами ставится задача разоружить личный состав этого завода!!! Да они бы нас голыми руками задушили. Вызываю директора завода, афганского полковника. Объясняю ему — так, мол, и так. Понимаю, что приказ глупый, но надо что-то делать, как-то выполнять. Смотрю, он потемнел лицом. Но сдержался. Мы с ним в хороших отношениях были, чисто по-человечески. Он немного подумал, потом сказал: «Ты не вмешивайся, я сам». Собрал своих офицеров, долго о чем-то с жаром спорили, потом все сдали оружие». В итоге посадка самолетов с десантом прошла в соответствии с планом и без каких-либо инцидентов.  Подготовка Ан-12 из состава Ферганского 194-го полка  Первые дни пребывания на аэродроме Шинданта: советские бойцы вместе с афганскими солдатами в живописном полувоенном обмундировании Первыми на Ан-12 были переброшены в Баграм остававшиеся подразделения 345-го отдельного парашютно-десантного полка, затем началась доставка на столичный аэродром десантников и техники витебской дивизии. Участвовавший в операции десантник и поэт Юрий Кирсанов описывал происходившее такими строками: В ночи летит могучий караван, Поверх людьми и техникой набитый, Сказали нам — летим в Афганистан, Спасать народ, Амином с толку сбитый. Гул садившихся самолетов был хорошо слышен в президентском дворце Тадж-Бек, где Амин в тот вечер давал прием. Накануне советский посол Ф.А. Табеев сообщил Амину о скором вводе советских частей. Пребывая в уверенности, что речь идет о выполнении его же просьбы, Амин ликующе сообщал присутствующим: «Всё идет прекрасно! Советские войска уже на пути сюда!» В том, что группы спецназа и десантники уже на подходе, он не ошибался, не догадываясь только о том, что события идут вовсе не по задуманному им сценарию и жить ему оставалось несколько часов. Всего в операции по переброске частей и подразделений ВДВ потребовалось выполнить 343 самолето-рейса. Выполнение задачи заняло 47 часов: первый самолет выполнил посадку 25 декабря в 16.25, последний приземлился 27 декабря в 14.30. В среднем, посадки транспортных машин следовали с интервалом 7-8 минут, на самом деле интенсивность высадки была куда более плотной, поскольку самолеты подходили группами и, разгрузившись, вновь уходили за десантом. За это время в Кабул и Баграм были доставлены 7700 человек личного состава, 894 единицы боевой техники и свыше 1000 т различных грузов, от боеприпасов до продовольствия и прочих материальных средств. В ходе высадки основная часть самолето-вылетов была произведена Ан-12, которые совершили 200 рейсов (58% общего числа), еще 76 (22%) выполнили Ил-76, дав любопытное совпадение цифр - 76/76, и еще 66 - Ан-22 (19%). Иногда приведенные цифры называют в качестве итоговых по работе ВТА при вводе войск, что неверно: эти данные относятся только к переброске первого эшелона десантников, подразделений связи и управления, после чего работа ВТА отнюдь не прекратилась и доставка личного состава, техники и грузов материально-технического обеспечения продолжалась, не прерываясь ни на день. Пристрастие к свободному обращению с цифрами приводит и к некоторым оплошностям: так, Н. Якубович в одном из выпусков «Авиаколлекции», посвященном самолету Ил-76, причислил всю выполненную самолетами ВТА работу в этой операции исключительно к перевозкам Ил-76, что выглядит откровенной припиской - как видно из приведенных данных, реальное их участие в силу названных причин было довольно ограниченным, а основную «ношу» доставили Ан-12, выполнившие почти втрое больше рейсов. Роль Ан-12 объяснялась прежде всего их многочисленностью в группировке ВТА; с другой стороны, меньшая грузоподъемность по сравнению с более крупными собратьями требовала для выполнения типовой задачи по переброске, к примеру, десантного батальона со штатным вооружением привлечения дополнительного количества самолетов и выполнения большего числа вылетов. В последующие дни, продолжая развертывание группировки войск, транспортники занимались материально-техническим обеспечением прибывающих сил и доставкой новых частей и подразделений, в том числе авиационных. Общая численность 34-го авиакорпуса в начале нового, 1980 года, составляла 52 боевых самолета и 110 вертолетов различных типов. Работа авиационной группировка требовала доставки всех необходимых средств наземного обеспечения, включая всевозможные стремянки, подъемники и приспособления, необходимые для обслуживания машин, сопутствующую технику, а также аэромобильные средства ТЭЧ. Необходимо было также сопровождение инженерно-техническим составом, связью, средствами управления, что являлось задачей все той же ВТА. Специальные автомобили и габаритная техника частей обеспечения из состава ОБАТО (отдельных батальонов аэродромно-технического обслуживания, придаваемых каждой авиационной части) шли своим ходом, в составе воинских колонн. Комплектация авиационной группировкой в период ее развертывания производилась преимущественно из числа частей 49-й Воздушной Армии, размещенной на среднеазиатских аэродромах - как видно, при формировании авиационных сил предполагалось обойтись теми же «подручными средствами», по численности довольно скромными. В их числе были истребительная эскадрилья МиГ-21бис из 115-го иап, размещенная в Баграме, и переброшенная туда же разведэскадрилья МиГ-21Р из состава 87-го орап, истребительно-бомбардировочная эскадрилья Су-17 из 217-го апиб в Шинданде, а также прибывшая в начале января эскадрилья истребителей-бомбардировщиков МиГ-21ПФМ из чирчикского 136-го апиб. Одно их перечисление способно дать представление о масштабах работы по доставке всего необходимого для обеспечения деятельности авиации (вертолетчики в этом отношении были несколько самостоятельнее, будучи способными часть средств и техсостава доставить своими силами). Через считанные месяцы с изменением обстановки появилась потребность увеличения авиационной группировки, для чего понадобилось привлечение ВВС других округов (в Вооруженных Силах в это время, безотносительно к афганским событиям, началось широкое реформирование военной авиации, имевшее целью достижение более тесного взаимодействия с армией, в ходе которого воздушные армии фронтовой авиации, согласно Приказу Минобороны от 5 января 1980 года, преобразовывались в ВВС военных округов, подчинявшиеся «красным лампасам» - командующим войсками округов). Этой участи не избежала и переброшенная в Афганистан авиагруппировка, в связи с расширением сменившая статус авиакорпуса на титул ВВС 40-й армии, авиационного объединения в своем роде единственного, поскольку ни одна другая общевойсковая армия собственных ВВС не имела. В числе других частей в составе ВВС 40-й армии сразу же предусматривалось наличие транспортной авиации (подобно тому, как при управлении всех военных округов и групп войск имелись «свои» смешанные авиатранспортные части). Её задачами являлись разнообразные перевозки, связь и обеспечение деятельности войск, спрос на которые был постоянным и непреходящим (с той особенностью, что в Афганистане к ним прибавилось еще и непосредственное участие в боевых действиях с нанесением бомбоштурмовых ударов, высадкой десантов, вылетами на патрулирование и разведку). С этой целью при формировании войсковой группировки изначально оговаривалось придание ей отдельного смешанного авиаполка, включавшего транспортные самолеты и вертолеты. Соответствующая директива Минобороны появилась уже 4 января 1980 года, в дополнение к которой был издан приказ Главкомата ВВС от 12 января 1980 года, конкретизировавший состав, штаты и комплектацию части. Формирование 50-го отдельного смешанного авиаполка производилось на базе сил ТуркВО с 12 января по 15 февраля 1980 года с привлечением личного состава и техники других округов. Первыми в Афганистан перелетели вертолетные подразделения, а к концу марта все силы полка перебазировались в Кабул, где 50-й осап вскоре стал широко известен как «полтинник» (к слову, в армии наличествовал еще один «полтинник» - так звали дислоцированный неподалеку 350-й парашютно-десантный полк). Боевое знамя 50-му авиаполку было вручено 30 апреля 1980 года. Не будет преувеличением сказать, что деятельность полка так или иначе касалась практически всех солдат и офицеров армии: за время нахождения в Афганистане самолетами и вертолетами 50-го осап только при выполнении транспортных задач было перевезено 700 тысяч человек и 98 тысяч тонн груза (другими словами, полк перевез всю стотысячную армию целиком семь раз кряду!). 3 марта 1983 года боевая работа полка была отмечена награждением орденом Красной Звезды. Транспортно-десантная операция ВТА в первые дни ограничивалась высадкой на двух центральных аэродромах, имея целью обеспечение занятия столичных административных и ключевых объектов, в том числе и крупнейшей авиабазы, прочие намеченные пункты занимались продвигающимся наземным эшелоном войск и переброской подразделений на вертолетах армейской авиации в удаленные точки. Большому объему задач ВТА способствовало и то, что развертывание группировки войск пришлось на зимние месяцы, в Афганистане далеко не лучшие, когда дороги и перевалы заносило снегопадами, сменявшимися налетавшими ветрами и бурями - знаменитым «афганцем», набирающим силу как раз в зимнее время. Воздушный транспорт в такой обстановке выступал не только наиболее оперативным, но и надежным средством доставки всего необходимого. Показательным стало то, что советские гарнизоны, по большей части, обустраивались как раз вблизи аэродромов, являвшихся источником снабжения и сообщений с Союзом. Так, в Кандагаре различали два города - «афганский», являвшийся центром одноименной крупной провинции, и «советский», включавший размещенные вокруг здешнего аэродрома армейские части и подразделения. Вся спецоперация по взятию важнейших объектов в Кабуле заняла у спецназа и десанта всего несколько часов. Поставленные задачи были решены с минимальными потерями, хотя не обошлось без накладок, вызванных отчасти несогласованностью, отчасти - секретностью планов: у нескольких объектов бойцы попадали под огонь своих же частей, а у правительственного дворца Тадж-Бек, уже взятого спецназом, направлявшиеся на поддержку витебские десантники не признали тех за своих, расстреляли их БТР и дело едва не дошло до встречного боя. Находившийся в расположении 345-го парашютно-десантного полка Бабрак Кармаль утром следующего дня выступил в роли нового лидера страны, поспешив объявить, что смена власти стала следствием «народного восстания широких слоев населения, партии и армии». Любопытно, что и сегодня иные авторы разделяют взгляд на события тогдашнего афганского правителя: в недавней публикации В. Рунова «Афганская война. Боевые операции» утверждается, что смена власти в Кабуле была осуществлена «небольшой группой заговорщиков», а ввод советских войск послужил лишь «сигналом для успешного осуществления правительственного переворота» - заявление, способное вызвать немалое удивление участников событий; еще бы - лихим росчерком пера автор объявил «заговорщиками» 700 наших солдат и офицеров, участвовавших в штурме и получивших боевые награды правительственным Указом от 28 апреля 1980 года. В прежние времена победители вступали в столицы верхом на белом коне, Кармалю пришлось довольствоваться неброским транспортником Ан-12. Со временем, когда звезда его станет клониться к закату, афганскому правителю в поисках пристанища вновь придется воспользоваться самолетом советской транспортной авиации. Пока же раненых при штурме бойцов вывезли в Союз на Ил-18, а в первых числах января 1980 года домой вылетел и весь личный состав спецназовского батальона. Боевую технику сдали десантникам, бойцов и офицеров погрузили на два транспортника, вылетевших в Чирчик. Не обошлось без проверки возвращавшихся на Родину: кому-то наверху пришло в голову, что участники штурма в разгромленном дворце могли найти немалые ценности и всех их подвергли досмотру, изъяв пару трофейных пистолетов, несколько кинжалов, транзисторный приемник и магнитофон, а также прихваченные в качестве сувенира местные деньги - афгани. Хотя в Союзе цветастые бумажки — «фантики» ни на что не годились, под тем предлогом, что денежное довольствие в «загранкомандировке» не выдавалось, все это было сдано в особый отдел. Эпизод мог бы показаться незначительным, однако он стал прецедентом для организации на аэродромах достаточно сурового таможенного барьера - первое, что встречало на Родине возвращающихся «бойцов-интернационалистов». К сожалению, уже самое начало работы «воздушного моста» подтвердило правоту давней истины, что войны без потерь не бывает. В первой же волне транспортников 25 декабря 1979 года разбился Ил-76 капитана В. Головчина, врезавшийся ночью в гору на подходе к Кабулу. Не прошло и двух недель, как в Кабульском аэропорту при посадке 7 января 1980 года пострадал Ан-12БП из ферганского 194-го втап. Как и в предыдущем случае, причиной происшествия явилась ошибка летчиков при построении захода на посадку. Опыта полетов в горах у экипажа было немного, хотя его командир майор В.П. Петрушин и был летчиком 1-го класса. Авария произошла днем при ясной погоде, когда аэродром назначения открылся издалека. Тем не менее ввиду близости подступавших гор летчики стали выстраивать посадочный маневр чересчур плотно, «сжимая коробочку», из-за чего самолет вышел на посадочный курс на удалении 12 км вместо установленных 20 км. Видя, что самолет идет с изрядным промахом, летчик растерялся, но на второй круг уходить не стал и продолжал снижение. Пролетев почти всю полосу, самолет коснулся земли всего в 500 м от конца ВПП. Аварийное торможение командир не использовал, и даже не пытался уклониться рулежным управлением от несущихся навстречу препятствий. Вылетев за пределы ВПП на 660 м, самолет ударился о бруствер и получил серьезные повреждения: была сломана носовая стойка, повреждены крыло, винты и двигатели, после чего вдобавок машина налетела на стоявшую в охранении аэродрома самоходку СУ-85. Столкновение с двадцатитонным бронированным препятствием сопровождалось особенно тяжелыми последствиями: при ударе тяжело пострадали борттехник капитан Нелюбов и радист Севастьянов, а в смятой носовой кабине от смертельных травм погиб штурман старший лейтенант М.Л. Ткач (как обычно, на Ан-12 в полете никто не пристегивался, особенно штурман, которому неудобно было работать «на привязи»). Погибший Михаил Ткач, недавний выпускник Ворошиловградского авиаучилища, с малых лет мечтал летать и в части был самым молодым штурманом, всего второй год как придя в ферганский полк. Причиной происшествия были названы «ошибки в технике пилотирования майора Петрушина, явившиеся следствием его плохой подготовки, зазнайства и слабой морально-психологической подготовки, чему способствовали неучет неустойчивой техники пилотирования летчика и поверхностная подготовка к полету». Перед этим экипаж провел неделю в командировке, развозя по Союзу доставленные из Афганистана тела первых погибших при вводе войск, вернувшись из которой отправился в свой первый и последний полет в Кабул. После окончания формирования группировки советских войск в Афганистане в ее составе были развернуты около 100 соединений, частей и учреждений, в составе которых находились почти 82 тыс. человек. Уже в феврале-марте была произведена замена призванных на скорую руку из запаса «партизан» среднеазиатских республик на кадровых офицеров и солдат срочной службы (всего заменить пришлось почти половину первоначального состава армии). Помимо повышения боеспособности частей, этими мерами исправлялся и «национальный перекос» армейского контингента: профессиональный уровень «запасников», и без того невысокий, усугублялся их оснащением - при перевозке личного состава экипажи транспортников поражались, видя дикого вида раскосую и небритую публику, в разномастном обмундировании, торчащих колом шинелях военных лет и с автоматами ППШ, извлеченными из складских запасников. Неожиданным для командования явилось и то, что расчет на взаимопонимание «призывных ресурсов» из числа таджиков, узбеков и туркмен с родственными народностями среди афганцев совершенно не оправдался и те встречены были с откровенной неприязнью (в донесениях тактично говорилось о «недостаточной лояльности местного населения из-за отсталости»). Никто из начальства не задумывался, что лозунги интернационализма не имели никакой силы в краю, где местные племена всегда исторически враждовали с северянами, массовое появление которых, да еще и с оружием в руках, не могло быть воспринято иначе как нашествие. Впрочем, их замена положение не только не исправила, но и усугубила - прибытие иноземцев, нарушавшее сложившиеся традиции, выглядело уже оскорбительным вторжением иноверцев - «кафиров». И без того шедшая в стране гражданская война с властями, призвавшими чужую армию, приобретала характер непримиримого джихада с неверными, сопровождавшимся фанатизмом, кровной местью и прочими атрибутами «священной войны», не говоря уже о том, что опора Кабула на чужую армию выглядела попранием всех устоев и бесчестием. Размещение такого количества войск требовало соответствующего обеспечения их всем необходимым. О военных операциях и сколько-нибудь масштабных боевых действиях речь еще не шла - армия занималась преимущественно обустройством, а ее задачи ограничивались, по большей части, охраной намеченных объектов. Однако налаживание быта и нормальной деятельности, к тому же в зимних условиях, требовало немалых объемов снабжения не только и не столько боеприпасами, но в первую очередь топливом, продовольствием, обмундированием и всевозможным прочим имуществом, не говоря уже о создании сколько-нибудь пристойных жилищных условий, постельных и санитарно-гигиенических принадлежностях (и без того первую зиму солдатам и офицерам пришлось провести в палатках и землянках - на казенном языке, «в табельных средствах палаточного типа»). В то же время при практически полном отсутствии дерева и прочих стройматериалов в Афганистане все необходимое опять-таки следовало завозить из Союза. Если реляции тыловиков на этот счет выглядели успокаивающе, то доклады командования 40-й армии с ними изрядно диссонировали: так, по состоянию на осень 1980 года, спустя почти год с начала кампании, «в результате халатности и нераспорядительности должностных лиц личный состав был лишь на 30-40% обеспечен мылом, на 40-60% - нательным и постельным бельем». Снабжение осложнялось также разбросанностью гарнизонов на сотни километров, причем части и подразделения дислоцировались на 150 различных точках. Все эти недостатки отмечались в первом же директивном документе МО СССР от 29 января 1980 года, обобщавшем итоги начального периода «интернациональной миссии», где напрямую говорилось о важности «заботы о материально-техническом обеспечении личного состава, благоустройстве частей, организации отдыха, питания, снабжения водой (обогреве зимой), доставке газет, писем, своевременном удовлетворении запросов солдат, прапорщиков и офицеров». Проблемы снабжения могут показаться малоинтересными по сравнению с плакатно-киношным изображением войны как череды боевых операций, лихих рейдов и огневых налетов, однако именно они определяли боеспособность армии, которая не только воюет, но и живет обычной повседневной жизнью. Самым непосредственным образом задачи обеспечения обуславливали деятельность транспортной авиации, роль которой в непростых местных условиях с первых же дней оказалась крайне высокой (Боевым Уставом ВТА, помимо прочего, ее назначением как раз и определяется «доставка войскам вооружений, боеприпасов и других материальных средств»). Что же касается важности и ответственности этих задач, то тем же Уставом оговаривается применение соединений и частей ВТА исключительно по решениям и планам Верховного Главного Командования (вряд ли какой другой род авиации, кроме разве что стратегической дальней, может похвастаться таким приоритетом!). В результате многоплановой деятельности служб снабжения и транспортников к концу 1980 года группировка советских войск располагала 2,5-месячными запасами материальных средств. «Жилищную проблему» решили завозом сборных домиков - знаменитых «модулей», официально именуемых конструкциями «Модуль» К-120, а также служебных сборно-щитовых сооружений типа СРМ и других. Для обогрева в ненастную афганскую зиму завезли разномастные печки -«буржуйки», весьма популярными ввиду дефицита дров были «поларисы» — чисто авиационное изобретение, работавшее на керосине или другом жидком топливе и представлявшее собой длинную трубу с заваренным концом или старый огнетушитель, поверху которого пробивались отверстия. Конструкция устанавливалась стоймя, внутрь заливался керосин или солярка, горевшие достаточно долго, но немилосердно чадившие и дававшие столько же сажи, сколько и тепла. Топливо для обогрева и техники также всю зиму завозили преимущественно транспортными самолетами в металлических емкостях или резиновых резервуарах-бурдюках, в которых бензин и солярку хранили на месте. Потребность армии в горюче-смазочных материалах в этот период составляла до 30 тыс. тонн в месяц. Со временем для подачи горючего к Кабулу и Баграму протянули трубопровод в две «нитки» - одну для керосина и другую для дизтоплива, наладив также перевозку колоннами наливников. Поскольку с электричеством были аналогичные проблемы, спросом пользовались керосиновые лампы, бывшие в большом дефиците. Из-за отсутствия нормального электроснабжения первые месяцы даже аккумуляторы для подзарядки и замены приходилось возить на транспортных самолетах в Союз. Проблему удалось ликвидировать только после доставки и развертывания на аэродромах Кабула и Кандагара базовых дизель-электростанций ДГА-15, позволивших обеспечить круглосуточное бесперебойное электроснабжение (ресурс дизеля в 50 тыс. моточасов позволял «молотить» несколько лет без перерыва). Для размещения самолетов и вертолетов и оборудования стоянок в массовых количествах завозились панели металлических покрытий К-1Д, для доставки которых специально сформировали две автороты подвоза. Правда, потребность в них была настолько велика, что только к концу 1984 года вопрос удалось окончательно решить и практически вся авиация была размещена на стоянках с прочным искусственным покрытием вместо прежних грунтовых площадок. Каких усилий стоило обеспечение снабжения и завоз всей номенклатуры грузов, можно судить по далеко не исчерпывающей цифре - только транспортниками ВВС 40-й армии в течение 1980 года были совершены 3540 рейсов с общим налетом 4150 часов. В среднем, ежедневно силами транспортников выполнялось 8-10 вылетов с грузами, техникой и личным составом. На практике это означало, что экипажи самолетов ВТА имели налет куда выше, нежели летчики истребительной и прочей «боевой» авиации 40-й армии, с соответствующим напряжением и утомляемостью (напомним, что профессиональной медициной летная работа относится к категории тяжелых). Медицинская служба ВВС по результатам обследований за 1980 год отмечала: «Летный состав истребительной авиации имел налет до 2 годовых норм, армейской — 2-3, военно-транспортной — до 3 норм. Физическое утомление, нервно-эмоциональное напряжение, вынужденные нарушения соблюдения предполетного режима вызывали физическое истощение. У летного состава армейской и военно-транспортной авиации отмечена потеря в весе до 4 кг, истребительной авиации - до 2 кг. Признаны негодными к летной работе 44 человека (из 240 прошедших врачебно-летную комиссию). Больше всего было дисквалифицировано летного состава с заболеваниями нервной системы. Это связано с недостаточной морально-психологической подготовкой летного состава к ведению реальных боевых действий, высоким нервно-эмоциональным напряжением, большими физическими нагрузками в сложных климатических условиях».  Ан-26 доставил в Джелалабад певца Льва Лещенко. Рядом с ним командир здешнего 335-го вертолетного полка полковник Бесхмельнов При всей востребованности Ан-12 в качестве основной транспортной машины самолет оказался не лучшим образом приспособленным к работе в афганской обстановке в отношении условий работы экипажа. Самолет делался еще в те времена, когда неприхотливость советского человека считалась сама собой разумеющейся, а слова «эргономика» и «комфорт» звучали если не бранными, то уже точно свойственными «не нашему» образу жизни. На борту Ан-12 присутствовала лишь система обогрева и вентиляции, да и то работающая только в полете с наддувом от компрессоров двигателей. Предусмотренных наземных кондиционеров в глаза никто не видел, из-за чего в летнюю жару на стоянке, при погрузке и выгрузке, кабина быстро превращалась в натуральную духовку, тем более что из-за темно-серой окраски машины обшивка раскалялась до +80°С и о борт вполне можно было обжечься (между прочим, на экспортных Ан-12 для Индии и других жарких стран «затылок» фюзеляжа над кабиной с учетом таких последствий окрашивали в белый цвет, отражающий лучи и хоть как-то выручавший летчиков в жару). На фюзеляже и плоскостях при выполнении работ находиться при дневном солнцепеке вообще не было возможности - ноги припекало даже сквозь подошвы. В кабине агрегаты и переключатели раскалялись до такой степени, что летчикам приходилось летать в перчатках, чтобы не обжечься. Летчикам Ан-26 и Ил-76 было несколько проще - машины поновее оснащались полноценной системой кондиционирования с турбохолодильниками, на земле можно было запустить ВСУ и работать в более-менее нормальных условиях. На выручку приходила изобретательность и всякого рода «маленькие хитрости»: на стоянке настежь распахивались двери и грузолюк, создавая легкий сквозняк в кабине, а экипажи экипировались во всякого рода летнюю одежду и обувь вместо форменных ботинок и рубашек с галстуком, считавшихся дома обязательными для летного состава (времена были еще те, когда куртку и штаны летной формы предписывалось одевать только поверх обычной «зеленого» повседневного полушерстяного обмундирования, рубашки с коротким рукавом и легкая обувь не предусматривалась даже для южных округов, а закатанные рукава считались верхом распущенности). В моду вошли разного фасона сандалии, иногда в их роли выступали форменные собственные туфли, с помощью ручной дрели превращаемые в «тапки с дырками», популярны были панамы от солнца и белые полотняные подшлемники взамен штатного шлемофона, прикрывавшие голову и уши от раскаленных «лопухов» - наушников. Когда однажды на базу транспортников в Ташкенте с инспекцией прибыл начальник Главного Штаба ВВС генерал-лейтенант С. Горелов, глазам начальства предстала картина, выглядевшая прямым вызовом уставу: пожелав лично ознакомиться с боевой работой подчиненных ему летчиков, генерал явился на стоянку встречать вернувшийся из Афганистана транспортник. Выбравшись из самолета, экипаж выстроился под крылом, являя собой далекое от приказного зрелище — заношенные и протертые до основы комбинезоны на голое тело, расстегнутые «до пупа» куртки с засученными рукавами, тапочки и шлепанцы на ногах и, в довершение всего, детская панамка на голове почтенных лет командира. Разнос был долгим и громким, заодно досталось и командиру здешнего полка, допустившему подобную «разнузданность личного состава». К слову, сам Главком ВВС П.С. Кутахов, время от времени появляясь в Афганистане с инспекцией, по какой-то одному ему известной причине прилетал только в гражданской одежде.  Боеприпасы, доставленные транспортниками на склад боепитания Баграма Щадя себя и машину, вылеты старались назначать с раннего утра или под вечер, когда жара немного спадала. Такая мера была отнюдь не вольностью летчиков: летать приходилось с аэродромов, относящихся к высокогорным, где разрежение воздуха ощутимо ухудшало несущие свойства и управляемость машины; уже при превышении в 1500 м над принимаемым за точку отсчета уровнем моря плотность воздуха падает почти на 15 % с соответствующим уменьшением подъемной силы, между тем как аэродромы Кабула и Баграма лежали куда выше (Кабул - на высоте 1780 м, а Баграм и вовсе на 1954 м). Еще больше плотность воздуха падала в жару: с повышением температуры турбовинтовые двигатели при типовых для Афганистана значениях порядка превышения в 1000 м и температуры +40°С теряли во взлетной мощности около трети, причем из-за высоких температур воздуха на входе время работы двигателя на таких режимах ограничивалось. Если скороподъемность Ан-12 в нормальных условиях составляла 9-10 м/с, то в жару после +25°С с каждыми последующими пятью градусами температуры воздуха она снижалась на 1 м/с и при обычной летом сорокоградусной жаре падала уже на треть. Машина хуже держалась в воздухе, соответственно росли взлетные и посадочные скорости, из-за чего более сложным становилось управление ею на этих режимах. Чтобы самолет сохранял приемлемые летные качества, приходилось уменьшать загрузку, что опять-таки вынуждало выполнять лишние рейсы, прибавляя работы экипажам. Обычные для Афганистана приземные ветра на взлете и посадке для Ан-12 были особенно ощутимы - самолет с большой боковой проекцией объемистого фюзеляжа и высоким килем был чувствителен к боковому ветру, в сочетании с узкой колеей требуя особой внимательности в пилотировании, чтобы машину не снесло с полосы. Владимир Шевелев из 115-го гв. иап, эскадрилья которого с дюжиной МиГ-21 бис перелетела в Баграм уже 27 декабря 1979 года, одно из первых ярких впечатлений на новом месте связывал как раза с посадкой транспортных машин: «Вылезли из самолета, вокруг степь и довольно близко горы, подступающие со всех сторон, каменный мешок, как в кино про альпинистов. На рулежке стоит Ми-24 с пулей от ДШК в лобовом стекле кабины летчика. Ничего себе... Холодало, и вдобавок задул такой ветер, что каменной крошкой секло лицо и руки. Оказалось, что это местная особенность и прекращаться он не собирается, к тому же дует сильно и поперек полосы. Тут как раз заходит на посадку очередной Ан-12. Зрелище очень даже непривычное: такая громадина летит к полосе боком, его видно «в профиль», так что становится не по себе - кажется, что самолет снижается куда-то в сторону, да еще и водит носом под порывами ветра. Оказывается, ветром громоздкий Ан-12 разворачивает и, чтобы не снесло, педали надо выворачивать чуть не до упора. Только перед самым касанием полосы самолет резко рыскает в нашу сторону, подворачивая в створ ВПП и на приличной скорости садится, кажется, сначала даже на переднюю стойку, а потом уже плюхается основными». Вертолетчик А.Бондарев, направлявшийся в Газни, описывал знакомство с местными условиями не менее живописно: «Наша замена пришлась на июль, на Ан-12 летели через Кабул. Сели, огляделись - ничего особенного. Вокруг аэродрома стоят пятиэтажки. Никакого восточного колорита. И тут вдруг ни с того ни с сего поднялся сильный горячий ветер, полетел песок и мелкая щебенка, секущая лицо. Все это напоминало метель, только песочную, а не снежную. Оказалось, это был тот самый «афганец», или «сухая метель», ветер с непредсказуемым характером. Вылет нам зарубили. «Сколько будем ждать?» - спросили мы у командира. «Это непредсказуемо, - ответил он. - Может, три часа, а может, и три дня». Слава богу, нам повезло и трое суток ждать не пришлось. Через пару часов ветер так же неожиданно стих, как и начался, снова залезли в транспортник и улетели». Метеоусловия Афганистана для работы авиации выглядели словно нарочным сочетанием неблагоприятных факторов и особенностей: как отмечалось ориентировкой ГШ ВВС, «в зимний период до половины всего времени из-за низкой облачности, закрытия гор и плохой видимости полностью исключалось выполнение боевых вылетов»; в летний сезон, длившийся с апреля по октябрь, обстановка характеризовалась как приемлемая для действий авиации, но с оговоркой - «это время сопровождается наибольшим числом дней с пыльными и песчаными бурями, от 10 дней в месяц на севере до 16 дней на юге, при которых пыль поднимается до высот 5-7 км, а видимость ухудшается до 300-500 м и в течение 3-4 суток после ослабления ветра значительно ухудшается видимость». Над мощными горными системами обострялись атмосферные фронты с развитием плотных высотных облачных заслонов и сильных струйных течений. Изменчивость метеообстановки сопровождалась ухудшением работы радиотехнических средств связи и навигации — до 60 дней в году сопутствовала ненадежность связи и работы навигационных средств в разных диапазонах волн, особенно для ведения УКВ-радио-связи. С помощью имевшейся на борту Ан-12 радиостанции УКВ-диапазона РСИУ-4В связь с аэродромом посадки и при обычной обстановке можно было установить только за 30-40 км до выхода на него, поэтому связь приходилось поддерживать только по КВ-радиостанции в телефонном режиме, благо наличие в экипаже радиста позволяло управляться со всей имеющейся на борту аппаратурой (к слову, в экипаже транспортника правый летчик, штурман и другая «молодежь» могли меняться, переводясь в другие экипажи и части, но командир и радист почти всегда подолгу летали вместе). Любопытно, что в Афганистане лишь столичный аэродром носил тот же доступный и общепонятный позывной «Кабул», для прочих кем-то из штабного начальства были изобретены загадочные определения: для вызова Кандагара предназначался позывной «Мирвайс», Баграму соответствовал «Окаб», Шинданд отзывался на «Эспожмат», Гератский аэродром звался таким же непереводимым словом «Низон» и только Мазари-Шарифу достался позывной с восточным акцентом «Якуб». Этимологию этих слов выяснить никому так и не удалось — по крайней мере, к местным языкам они отношения не имели и знакомые афганцы из летчиков и связистов только пожимали плечами — они-то считали, что такие звучные выражения определенно принадлежат к лексическим богатствам русской речи, притом что позывные соседних аэродромов ТуркВО звучали вполне по-людски: «Колокольчик», «Подсолнух», «Кубань» и т.п. Даже время в Афганистане выглядело каким-то «скособоченным», отличаясь от местного часового пояса на 45 минут, и во избежание путаницы все вылеты и плановые таблицы составлялись по московскому времени. Нелишним на борту Ан-12 было и присутствие штурмана, работы которому хватало - условия для визуального ориентирования над однообразием гор и пустынь были весьма ограничены, а скудные надежные ориентиры можно было пересчитать по пальцам: к их числу принадлежали четко видимые речные берега и сухие русла-вади, крупные селения, озера и, кое-где, - дороги. Приметными являлись пересыхающие солончаки, ясно выделявшиеся белыми соляными пятнами на фоне однообразной серой пустыни. Из-за «горного эффекта» неустойчиво работал радиокомпас, а нормальная дальность работы РСБН достигалась лишь с набором высоты 6000-7000 м. Прием сигналов приводных аэродромных радиомаяков в горных районах обеспечивался с дальности, более чем вдвое уступающей привычной над равнинной местностью, в условиях Афганистана не превышая 50-70 км. Очевидно, что в этом отношении экипажи Ан-12 находились в более выгодном положении, чем летчики истребителей и другой «военной» авиации, обходившиеся без штурмана и радиста, а вернее, - сочетавшие все эти обязанности в одном лице.  Пулеметная установка с спаренными ДШК в обороне авиабазы Баграм. Приметной деталью является использование на турели пулеметов двух разных образцов, бруствером служит нагромождение ящиков из-под патронов-ловушек 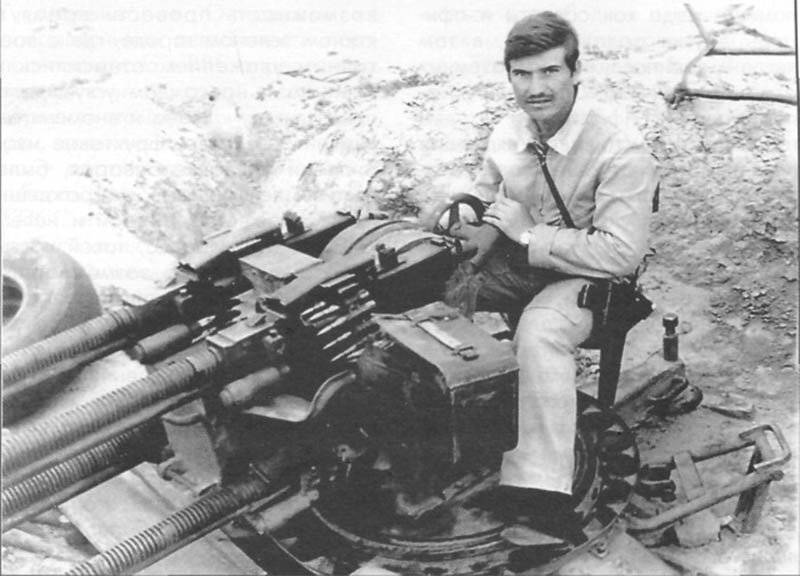 Счетверенная установка пулеметов ДШК в поясе прикрытия баграмского аэродрома. На поясе позирующего летчика - автоматический пистолет АПС в кобуре-прикладе, ставший штатным оружием летного состава. Осень 1986 года Всего за 1980 год транспортная авиация произвела на доставку войск, техники, боеприпасов и прочих грузов 3540 полетов с общим налетом 4150 часов. Небольшая средняя продолжительность полетов - порядка часа с небольшим — объяснялась уже упоминавшейся сравнительной близостью расстояний между местными аэродромами (по крайней мере, по авиационным меркам - чего нельзя было сказать о наземном транспорте, по нескольку дней преодолевавшем дороги, петлявшие по горам и тянувшиеся в пустыне). К примеру, Кабул от Хоста отделяли всего полтораста километров, от Мазари-Шарифа - около трехсот и от Кандагара - примерно 450 км. С учетом высокой и практически каждодневной занятости летчиков и техников срок их службы в Афганистане был ограничен одним годом, после которого следовала замена, тогда как солдаты и офицеры других родов войск, в том числе и военнослужащие наземных аэродромных служб ОБАТО, направлялись в Афганистан на два года. Эти нормативы, выглядевшие гуманизмом в отношении авиаторов, были вполне обоснованными: обследования военных медиков, проведенные в авиационных частях Кабула и Баграма, вторили предыдущим замечаниям и показывали, что «уже после 10-11 месяцев интенсивной боевой деятельности у летного состава выявляются различные формы хронического переутомления», проявляющиеся как «существенные функциональные сдвиги и нарушения в состоянии сердечнососудистой и двигательной системы, вестибулярной функции, появление выраженных нарушений психических функций, а у 44,1 % летчиков - выраженные существенные изменения нервно-психического статуса». Причинами назывались «чрезмерная летная нагрузка, в три-четыре раза превышавшая установленные нормы, длительное стартовое время, достигавшее 12 и более часов, наличие длительных негативных эмоций и выраженное состояние тревожности и эмоционального напряжения при повсеместно неблагоприятных условиях для отдыха и том же неудовлетворительном социально-бытовом и материальном обеспечении». Поскольку интенсивность боевой деятельности даже с ростом численности авиационной группировки не снижалась, это сопровождалось не только переутомлением летчиков и снижением работоспособности, но и напрямую грозило безопасности полетов. Терять технику и экипажи по небоевым причинам на войне, где вдобавок ситуация усугублялась неблагоприятными местными условиями, никуда не годилось. Во избежание «работы на износ» участие в полетах стали чередовать с предоставлением отдыха, давая возможность восстановления сил. Для этого летчиков по истечении установленных норм налета или числа вылетов предписывалось направлять в летный профилакторий, находившийся в поселке Дурмень под Ташкентом, где, помимо пары недель «отпуска» и возвращения в мирную жизнь, они могли получить квалифицированную помощь медиков и поправить здоровье (да и сама возможность провести время в южном зеленом городе, где с восточным уважением относились к военным и на каждом углу ждала приветливая чайхана и знаменитое чимкентское пиво, фруктовое изобилие и раздолье базаров, была едва ли не лучшим вознаграждением после месяцев потной и нелегкой работы). Правда, такой отдых предоставлялся «по возможности», а экипажи транспортников поначалу имели неопределенный статус, поскольку в указании речь шла о выполняющих боевые вылеты, к которым обычные перевозки и рейсы с грузами и людьми можно было отнести разве что с натяжкой. Тем не менее насущность и острота вопроса потребовали его разрешения директивным образом и предоставление отдыха летному составу было оговорено руководством ВВС в приказном порядке. Еще одним годом позже Главком ВВС потребовал «неукоснительного выполнения требований приказа авиационными командирами всех степеней», которым надлежало «контролировать установленные нормы налета (боевых вылетов) летного состава и своевременно предоставлять ему профилактический отдых на 15 суток». По всей видимости, руководство в принятии решения не очень-то оглядывалось на опыт американцев, однако те уже в начале вьетнамской кампании пришли к аналогичной необходимости организации полноценной системы мер по поддержанию здоровья и боеспособности летного состава, наладив специальную программу под наименованием «отдых и восстановление» и после определенного числа вылетов отправляя летчиков на «курортные» базы Гавайев и Филиппин. Впрочем, в боевой обстановка у нас на положенный отдых рассчитывать приходилось далеко не всем и не всегда: на первом плане оставалось выполнение боевых задач, а установленные нормы удовлетворялись по остаточному принципу - при наличии достаточного! числа летчиков в строю, в перерывах между операциями и прочих «если», включая и наличие попутного «борта», следующего в Союз. Ожидать самолета можно было не один день, а то и приходилось добираться на «перекладных», иной раз неделю-две дожидаясь подходящего рейса на чужом аэродроме. У транспортников в этом отношении было большое преимущество - на рейс в Союз из Кабула или Баграма можно было рассчитывать практически каждый день, добираясь к месту назначения с кем-то из своих же коллег. Что касается упомянутого «социально-бытового обеспечения», то обычным образом все вопросы обустройства преодолевали своими же силами, оборудуя более-менее пристойное жилье, пусть и без претензий на комфорт, и с помощью своих же коллег-транспортников доставляя из Союза кондиционеры, телевизоры, холодильники и прочие бытовые предметы, вплоть до утюгов и посуды. Привычным «хозспособом» в каждом уважающем себя подразделении сооружались баньки, спортплощадки с самодельным инвентарем, комнаты отдыха. В Баграм и Кабул авиаторы с помощью тех же транспортников ухитрились привезти даже бильярд, понятным делом среди штатного кульпросветимущества не числившийся. Комплектация последнего, между прочим, оговаривалась специальным приказом Минобороны СССР от 1976 года и должна была включать прежде всего средства агитационно-пропагандистского характера — щиты и плакаты с наглядной агитацией, выдержками из уставов и наставлений, войсковые радиоприемники, обеспечивающие трансляцию передач политико-просветительного значения и новостей, а также, ввиду «заметной тяги военнослужащих к музыкальным инструментам личного пользования», - гитары, баяны, гармошки и национальные струнные инструменты; из средств проведения досуга допускались библиотеки, формируемые «из расчета 3-4 книги на каждого военнослужащего с литературой политического и художественного характера», а также наборы красок для развития изобразительной самодеятельности и оформительства, шахматы и шашки, не относившиеся начальством к азартным играм (впрочем, и без того во всяком порядочном экипаже транспортного самолета на борту имелись нарды и кубики-кости, позволявшие скоротать время в ожидании вылета).  Техники занимаются подготовкой Ан-12 Правда, до бытовых мелочей и всякого рода обыденных надобностей у снабженцев и начальства внимание обычно не опускалось, и даже в Кабуле и «почти столичном» гарнизоне Баграмской авиабазы то и дело не сыскать было зубной пасты, бритвенных лезвий и обычных носков. Приходилось обращаться к «товарно-денежным отношениям» с хозяевами здешних дуканов, благо уже с 1980 года распоряжением Совмина СССР, «исходя из конкретных экономических и социальных условий», устанавливалась выплата военнослужащим советского контингента денежного содержания в специальных чеках для приобретения товаров первой необходимости (обладание «нормальной» зарубежной валютой по тогдашнему законодательству рассматривалось как уголовное преступление). Для этого были введены заменяющие деньги «афганские чеки» с красной полосой, на которые можно было покупать необходимое и в гарнизонных торговых точках, и в местных лавках. Так же широко пользовались и местной валютой - афгани, пусть даже те стоили весьма дешево, имея курс 35-40 к полновесному рублю. Силами той же транспортной авиации, выделявшей специальный самолет-«почтовик», организовывалась доставка почты и, непременно, - центральных газет. Отношение к «почтарю» всегда было самым теплым и его встречали с особым нетерпением — «на войне нужны прежде всего порох, хлеб и письма», о чем знает всякий, служивший в армии и дожидавшийся вестей из дома. Центральной прессе, несущей партийное слово, начальство уделяло особое внимание - как-никак, по мудрому ленинскому изречению, «газета — это не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, она также и коллективный организатор!». Газеты предписывалось своевременно доставлять в гарнизоны, на обязательных политинформациях доводя очередные судьбоносные решения партии до личного состава, что рассматривалось теми же руководящими органами как источник «высокой идейности — силы советского воина». Понятно, что при таком обилии задач партполитработникам недосуг было заниматься бытовыми вопросами и те оставались уделом самих летчиков и техников, благо в авиации, при минимальном штатном числе солдат срочной службы, практически все работы по обустройству приходилось выполнять руками самих авиаторов, среди которых были мастера самых разных ремесел, от столяров и плотников до сварщиков и умельцев по ремонту телевизоров. Основными же направлениями деятельности партполитаппарата в ВВС определялись «воспитание высокой идейности, верности коммунистическим идеалам, дальнейшее разъяснение личному составу военно-политической обстановки, внешней политики КПСС и Советского государства, мобилизация воинов на образцовое выполнение своего интернационального долга, развитие творческой активности офицеров» (цитируется по материалам Ташкентской армейской партконференции, проводившейся в феврале 1981 года). С этой целью требовалось «осуществлять дифференцированный подход в руководстве политической работой в частях и подразделениях истребительной, истребительно-бомбардировочной и транспортной авиации», добиваясь того, чтобы 100 % летного состава были коммунистами. В частях ВВС и, конкретно, транспортной авиации как основной темы нашего повествования, политорганами для укрепления идейно-политической сплоченности была поставлена задача организации партийных групп и назначения партгруппоргов во всех экипажах транспортных самолетов и вертолетов. Такой пристальный интерес к этим родам авиации имел простое объяснение - учреждать партийные организации в экипажах истребителей и других боевых самолетов, состоящих из одного человека, было бы уже явным перебором. Подходя к делу творчески и с размахом, политотделы изыскивали возможность не оставить без внимания никого из подчиненных: предписывалось «наладить политическую учебу офицеров и прапорщиков по индивидуальным планам», которые те должны были составлять и заниматься в свободное время политическим самообразованием, «используя произведения В.И. Ленина, партийные документы и агитационную литературу» (что живо напоминало слова одного из героев гайдаевских комедий: «Ты будешь вести среди меня разъяснительную работу, а я стану расти над собой»). Возвращаясь к тем же аналогиям с вьетнамской войной, согласимся, что тут какие-либо параллели совершенно неуместны: самая вольная фантазия не позволит представить себе пилота «Фантома», после боевого вылета корпящего над личным комплексным планом по собственному идейному развитию и вдумчиво изучающего творческое наследие классиков американской демократии... Указывалось также на обязательность контроля политотделами за выполнением этих ценных указаний (по-видимому, авторы подобных заклинаний из ГлавПУРа считали, что без проведения партсобрания и присмотра замполита за членами экипажей выполнение боевого задания не может гарантироваться). За всеми этими ритуальными фразами и шелухой «партийного слова» крылась весьма далекая от бумажных словес реальная картина: на войне быстро пропадала вся показная серьезность отношения к пресловутой высокой идейности, росту политической сознательности и прочей демагогии, столь любимой дома. На первый план выходило реальное умение, заслуги в деле и воинский профессионализм. В боевых условиях при сочетании неблагоприятных местных факторов и высокой нагрузке на экипажи не обходилось без поломок и происшествий. 28 октября 1980 г. в горах у Кабула разбился транспортник Ан-12БП. Этот самолет не принадлежал ВВС 40-й армии и вообще не был военным — машина с регистрационным номером СССР-11104 числилась за Центральным Управлением Международных Воздушный Сообщений (ЦУМВС) гражданской авиации, занимавшимся работой на заграничных направлениях. Самолеты «Аэрофлота» были частыми гостями на афганских аэродромах, осуществляя пассажирские и грузовые перевозки для удовлетворения запросов Кабула, нуждавшегося в разнообразных поставках (даже армейскую обувь заказывали у чехов, на знаменитых своим качеством тамошних фабриках). В этот раз самолет выполнял рейс из Софии с промежуточными посадками в Минводах и Ташкенте. На последнем этапе перелета экипаж столкнулся с ухудшением погоды, низкой облачностью и срывавшимся дождем. При подходе к Кабулу летчики в поисках видимости снизились менее допустимого и в 10.32 местного времени машина врезалась в гору Вази-Карнибаба на высоте 4608 м, находившуюся в 25 км от столичного аэродрома. Несмотря на близость места катастрофы, поиски самолета в горах заняли неделю. Когда место падения все же отыскали, спасательной группе там делать было уже нечего: самолет и груз разлетелись на мелкие обломки, а все шестеро погибших летчиков остались погребенными под каменными завалами. Серьезными последствиями сопровождался инцидент, случившийся с военным Ан-12БП 15 декабря 1980 г. Как и в январском случае, экипаж допустил промах на снижении, из-за чего машина приземлилась с перелетом и выкатилась за пределы ВПП. Налетев на бугор, подломилась носовая стойка, после чего самолет пропахал по каменистому грунту носом, смяв нижнюю часть фюзеляжа. Завалившись набок, Ан-12 помял законцовку правого крыла и задел землю винтами, что привело к поломке двух двигателей. Тем не менее в остальном самолет пострадал не сильно и его решили вернуть в строй. К месту происшествия прибыла бригада ремонтников из ферганского полка, доставившая туда необходимые «запчасти», включая два двигателя, винты, новую стойку шасси и часть крыла. Дела обстояли точь-в-точь как в давней авиационной прибаутке: «Прилетели, мягко сели, высылайте запчастя: Два мотора, два тумблера, фюзеляж и плоскостя» Кое-как подлатав машину на месте и на «живую нитку» собрав носовую часть, Ан-12 подняли в воздух и перегнали в Фергану, где ремонтом занимались еще полгода. Для выполнения работы в полном объеме потребовалось привлечь бригаду с завода-изготовителя, что заняло 23500 человеко-часов. Неприятности редко приходят поодиночке: не прошло и месяца, как пострадал очередной Ан-12БП из 50-го авиаполка. На этот раз обошлось без вины экипажа, к тому же, на их счастье, летчиков вообще не было при машине. На войне как на войне — 12 января 1981 г. неприятности подстерегли транспортников не в воздухе, а прямо на стоянке Кабульского аэродрома. Стоял уже десятый час вечера, зимняя темнота подступила рано, когда диверсионная группа душманов подобралась к самым стоянкам полка (как удалось душманам проникнуть в самый центр охраняемой зоны, окрестности которой были щедро нашпигованы минами и должны были прикрываться батальоном охраны, особый разговор). Стрелок-гранатометчик произвел четыре выстрела по ближайшей цели, которой оказался Ан-12. Стрельба велась практически в упор, промазать по такой «мишени» было невозможно, и в самолет попали подряд три гранаты из выпущенных четырех. Душман бил прямо в борт, так что один разрыв пришелся на центральную часть фюзеляжа, а две других гранаты сработали уже в грузовой кабине, то ли разорвавшись с задержкой, то ли пройдя через образовавшуюся дыру. Каким-то чудом не были задеты топливные баки в крыле и фюзеляже и обошлось без пожара. Перечень остальных повреждений был настолько обширным, что проще было бы сказать, что на самолете не пострадало: многочисленными пробоинами были испещрены оба борта, правый обтекатель шасси, капоты двигателей, грузовые трапы, силовые панели центроплана, носок правого крыла и закрылок, задеты были тяги управления элеронами, топливные, гидравлические и кислородные трубопроводы, перебита электропроводка, дыры имелись даже в стеклах блистеров, во входной двери и одном из воздушных винтов. Всего на самолете насчитали 800 дыр и рваных пробоин, самая большая из которых в борту имела трехметровую длину и ширину в полметра. Последствия могли быть куда хуже, однако характер поражения кумулятивными гранатами давал направленную струю с относительно слабым зажигательным и убойным воздействием легких осколков, а сам кумулятивный удар огненной струей пришелся в «пустое» пространство внутри грузовой кабины (все видевшие продырявленный транспортник однозначно сходились во мнении, что, попади граната в истребитель, начиненный поплотнее, дело неминуемо закончилось бы его полным уничтожением). Поскольку восстановить самолет на месте в полном объеме не представлялось возможным (для замены силовых узлов и полноценного выполнения монтажных, слесарных и клепальных работ требовались заводские условия), своими силами его только подготовили для перелета в Ташкент. Там в ТЭЧ полка исправили что могли, после чего самолет перегнали на ремзавод в Старой Русе, где и завершили восстановительные работы. Если стрельба на аэродроме из гранатомета явилась все-таки явлением исключительным, то минометные обстрелы авиабаз происходили довольно часто. Подтащив на себе миномет или легкое безоткатное орудие в мало-мальски подходящее место, душманы выпускали десяток снарядов и тут же отходили, скрываясь в зарослях «зеленки» и окрестных селениях. Бороться с такой тактикой было трудно, и авиация 40-й армии время от времени несла потери прямо на базах, подчас довольно чувствительные. В Кандагаре 23 сентября 1981 г. возникший на складе боепитания пожар и последовавшие взрывы боеприпасов привели к тяжелым последствиям. Из охваченных огнем штабелей с патронами и ракетами шла настоящая стрельба, с горящих самолетов срывались и летели куда попало ракеты, несколько из них шлепнулись прямо у стоянки прилетающих транспортников. Разлетавшиеся осколки и НУРСы падали по всему аэродрому, причиняя ущерб постройкам, задевая самолеты и вертолеты. Вскоре пожары возникли еще в нескольких местах. Полностью сгорело дежурное звено МиГ-21 и один Ми-6, оказавшийся слишком близко к очагам пожаров. Неразберихи добавляло то, что никто не мог понять, происходит ли нападение душманов, артналет или еще какая напасть.  Выполнение регламентных работ но Ан-12БП в ТЭЧ 50-го полка. Ввиду недостатка места на аэродроме выходом стало оборудование стоянок из металлических профилей-настилов. Кабул, зима 1987 г Подполковник В. Петров, летевший в Кандагар на Ан-26 с главкомом афганских ВВС и ПВО Кадыр Мухаммедом, прибыл на место в самый разгар событий: «На подлете к Кандагару оживленный радиообмен, почти крик. Спросил, что происходит. Вразумительного ответа не получил. Посадка категорически запрещена, весь аэродром в дыму. Горит МиГ-21, и еще в двух местах пожары и черный дым. Кое-как узнал: горит склад с боеприпасами. Решили, что если нельзя приземлиться на полосу, то сяду на рулежную дорожку. Рвутся бомбы, снаряды, сзади заходят на посадку два МиГ-17 с ограниченным запасом топлива. Сели на самый край полосы. Первые три НУРСа прошли метрах в 150 левее самолета, еще два опять левее, но теперь уже на рулежную дорожку. Руководитель полетов кричит: «Не могу выйти, кругом стрельба». Спрашиваю: «Это нападение душманов?» Ничего не отвечает. Отрулил в конец полосы. В 50 метрах шлепнулись еще два НУРСа. Выключил двигатели. Срочно покинули самолет». Не обошлось без нападений и в Баграме, где охрана аэродрома считалась налаженной достаточно хорошо. 8 июля 1981 г. душманские минометчики открыли стрельбу среди бела дня. После первых же разрывов минометный расчет накрыли подоспевшие вертолеты, однако тому удалось-таки поразить склад авиационных боеприпасов, находившийся рядом со стоянками. Близкие разрывы и падающие осколки заставили уводить технику, вытаскивая самолеты со стоянок чем попало на другой конец аэродрома. Транспортная эскадрилья сориентировалась с похвальной быстротой, экипажи тут же начали запуск двигателей и стали выруливать из-под падающих осколков. Получив команду уходить на аэродром Кабула, летчики Ан-12 трогались с места на паре работающих двигателей, на ходу запуская остальные, и по ближайшим рулежкам выскакивали на ВПП. Выход из-под удара впечатляюще выглядел даже со стороны: «Ан-12 удирали в бодром темпе, на хорошей скорости неслись к полосе, взлетали по-истребительному лихо и безо всяких расчетных разворотов и коробочек выворачивали на Кабул, заламывая такие виражи, что у нас на земле дух захватывало». Введение жестких мер охраны аэродромов, в первую очередь, вертолетного патрулирования окрестностей, призванного прочесывать подходы и опасные направления, на какое-то время позволило ослабить напряжение. Однако и противник не остался в долгу, начав использовать для обстрелов авиабаз реактивные снаряды. Такие «эрэсы» использовались с импровизированных пусковых установок, особой точностью не отличались, но стрельбу можно было вести с удаления в десять и более километров, а незамысловатое устройство и простота в применении позволили сделать их массовым оружием. В итоге какая-то из ракет время от времени находила цель. Вся подготовка к стрельбе занимала считанные минуты — для этого достаточно было изготовить пусковую, подперев ее камнями или ветками, направить в сторону объекта и выпалить, тут же разбегаясь и прячась после выстрела. Со временем установки стали оснащать часовым механизмом, самостоятельно срабатывавшим в условное время, что позволяло загодя снарядить пусковое устройство и скрыться, избегая ответного удара. Потери авиатехники по этим причинам имели место и в дальнейшем, однако транспортникам сопутствовало везение и дело обычно ограничивалось теми же осколочными повреждениями, позволяя быстро вернуть машину в строй. Душманские отряды интенсивно вооружались, получая разнообразное современное оружие; правда, и дедовские «буры» пользовались большим уважением — винтовки, иные из которых были постарше самих владельцев, имели мощный патрон, большую дальность и точность боя, сохраняя убойную силу на расстоянии в пару километров и больше, из-за чего авиаторы их опасались побольше, чем автоматов. Вместо прежних племенных отрядов из селян и кочевников, чьи интересы ограничивались окрестностями собственного кишлака, страну наводнили многочисленные вооруженные формирования самых разных мастей, у которых военное дело стало основным промыслом. Организованный, хитрый и изобретательный противник разнообразил способы боевых действий, умело противодействуя авиации. В борьбе с самолетами и вертолетами использовались засады и кочевые позиции зенитных средств, выставляемые у аэродромов на направлениях взлета и посадки, а также вдоль замеченных маршрутов полетов, что для транспортников выглядело особой угрозой — почти все рейсы выполнялись по нескольким известным направлениям. В качестве зенитного оружия душманы повсеместно стали использовать крупнокалиберные ДШК и ЗГУ, способные поражать цель на высоте до 1500-2000 м. Их мощные патроны обладали высоким поражающим действием — увесистая 12,7-мм пуля ДШК на дистанции эффективного огня прошибала даже броню БТР, а 14,5-мм пулемет установки ЗГУ, досягаемостью и убойной силой превосходивший всякие зарубежные образцы, был опасен для любой цели и внушал еще большее уважение. В аналитической записке Главного Управления боевой подготовки сухопутных войск указывалось, что противник «считает наличие ДШК необходимым для успеха» и в душманских отрядах стараются поддерживать «нормативы» по вооружению, непременно располагая одним—двумя расчетами ДШК и минометом. Иностранные инструкторы, занимавшиеся подготовкой «духов», замечали, что афганцы — «настоящие асы в обращении с ДШК»; правда, те не очень-то склонны были задумываться об эффективности огня и тактических тонкостях, прицел обычно при установке заклинивался раз и навсегда на одной дальности, а стрелка куда больше привлекала сама пальба, сопровождавшаяся множеством огня, грохота и дыма, и шедшая до полного исчерпания патронов. В тактике предпочитались обстрелы и налеты, шумные и производящие впечатление. Более-менее далеко идущие планы, к примеру, штурм того же аэродрома с досаждающей авиацией, требующие четкого замысла и стратегии, но и чреватые неизбежными потерями, выглядели совершенно непривлекательно (теми же западными советниками отмечалось, что «организованный захват советских баз вообще стоит выше понимания афганцев»). Мешал этому и сам настрой афганских боевиков со свойственными национальному характеру индивидуализмом и восточным фатализмом, где успех определялся не столько организованностью действий, сколько предопределенностью свыше. Как говорится, спасибо и на том — набиравшая силу душманская зенитная оборона и без того доставляла все больше неприятностей авиации. Когда 17 августа 1980 г. в Кундузе при катастрофе Ми-24 погиб один из первых «афганских» Героев Советского Союза майор В.К. Гайнутдинов, обстоятельствам происшествия сопутствовал ряд малоизвестных деталей. Отличный летчик, занимавший должность заместителя командира 181-го отдельного вертолетного полка, имел репутацию грамотного и справедливого начальника и был весьма популярен среди товарищей-авиаторов. Звание Героя Советского Союза он получил первым же «афганским» указом уже в апреле 1980 г. В тот день, пришедшийся на праздник Воздушного Флота, он занял место летчика-оператора при облете Ми-24 после ремонта. Вертолет из отдельной кундузской эскадрильи пилотировал его товарищ майор И.В. Козовой (офицеры учились вместе и в Афганистане находились с первых дней). Через несколько минут после взлета вертолет, выполнявший боевое маневрирование, не вышел из очередного разворота, врезался в землю в трех километрах от полосы и сгорел вместе с экипажем. При расследовании происшествия, на которое прибыл и командующий авиацией 40-й армии генерал Б.А. Лепаев, оказалось, что руководитель полетов кундузского аэродрома объяснений дать не может, поскольку обстоятельств катастрофы не наблюдал — в тот момент он был занят посадкой подходившего Ан-12, заводя его с противоположного направления и сидел, повернувшись спиной к месту происшествия. Экипаж вертолета оставался предоставленным самому себе и детали произошедшего остались толком невыясненными. Тем не менее, свидетелями происшествия оказались летчики того самого Ан-12, находившегося в тот момент на посадочной глиссаде. Летчики видели, как от кружившего Ми-24 «что-то отделилось», после чего вертолет резкой спиралью пошел к земле. Наблюдавшийся летчиками фрагмент, потерянный вертолетом, был хвостовым винтом или всей концевой балкой, которые нашли потом отдельно от места падения машины в камышовых плавнях. На следующий день пехота доставила и обнаруженный в зарослях ДШК. Никто не мог утверждать наверняка, кого поджидал у самого аэродрома душманский стрелок. Ан-12 тогда со всей очевидностью спасла случайность — заходи транспортник на посадку с противоположным курсом, он неминуемо бы оказался прямо под огнем вместе со всеми находящимися на борту. В Баграме, во избежание обстрелов, взлеты предписывалось выполнять, по возможности, в одну сторону, предотвращая проход над близлежащей «зеленкой», где могли укрываться зенитчики. Для того, чтобы маневры при заходе на посадку выполнялись в охраняемом периметре аэродрома, отрабатывалась укороченная схема с большими скоростями снижения. Посадки на таких режимах были сложнее, но повышали безопасность, обеспечивая снижение в пределах патрулируемой зоны. Оборотной стороной являлся возрастающий риск из-за сложности пилотирования и поведения самолета, для которого подобные приемы были близки к предельно допустимым (для простоты понимания можно сравнить их с попыткой загнать машину в гараж, не сбрасывая скорость и до упора выворачивая руль). 26 октября 1981 г. при взлете с аэродрома Баграм самолет Ан-12БК пилотировал экипаж майора В. Глазычева, прибывший в 200-ю отаэ на должность замкомэска со сменой криворожского полка. Самолет оказался изрядно перегруженным, — как выяснилось позже, его взлетный вес составлял недопустимые 65 т, о чем командир, похоже, и не догадывался (в полетном листе значился куда меньший груз). При взлете Ан-12 пробежал всю полосу и только на третьем километре разбега оторвался от земли (в буквальном смысле слова —«подорвать» машину удалось уже с грунта). Самолет вяло набирал высоту и зацепил бруствер аэродромной радиосистемы ближнего привода, потеряв левую основную ногу шасси. Сила удара оказалась такой, что сломанным оказался верхний пояс бортовой балки, левый борт фюзеляжа смялся и пошел волнами. При ударе вырвало изрядный кусок обтекателя шасси и отсека турбогенератора, отлетела и сама установка ТГ-16. На счастье, самолет сохранял управляемость и кое-как держался в воздухе, сумев дотянуть до Кабула. Изрядно помят был и низ фюзеляжа, из-за чего передняя стойка шасси отказалась выпускаться. Экипаж произвел посадку на грунт на одни только колеса правой основной стойки шасси при сложенной передней ноге. Его дальнейшее продвижение по земле пробегом назвать было никак нельзя: самолет с грохотом полз на брюхе в тучах пыли, однако летчикам удалось удержать его от переворачивания. Помимо полученных при взлете повреждений, на посадке добавилась смятая левая консоль, ободранный до самого хвоста фюзеляж, изувеченный крайний левый винт и все четыре двигателя — три из них наглотались земли и камней, а у крайнего левого развалился еще и редуктор, когда лопасти винта стали молотить о землю. Кое-как изуродованный Ан-12 притащили на стоянку, где специально прибывшая из части ремонтная бригада числом в 11 человек восстанавливала его следующие полгода. Самолет удалось отремонтировать, заменив стойку шасси, все четыре двигателя, множество панелей обшивки, каркасных и силовых элементов, после чего в конце апреля 1982 г. он вернулся в строй. Ввиду сложной схемы захода и рискованности посадки в Баграме полеты Ил-76 туда были прекращены, и работать с этой базы продолжали только Ан-12 и Ан-26. Причиной являлся не только изрядный вес, размеры и растянутый посадочный маневр тяжелой машины (так, посадочная дистанция Ил-76 с высоты 15 м, на которой рекомендовалось проходить порог ВПП, полуторакратно превышала потребную для Ан-12). Само наличие герметичной грузовой кабины делало «комфортную» реактивную машину более уязвимой — достаточно было одной пулевой пробоины, чтобы Ил-76 застрял на аэродроме в ожидании ремонта, тогда как для Ан-12 подобное повреждение сходило вовсе незамеченным. «Закрытость» Баграма для Ил-76 иной раз вынуждала организовывать его снабжение «на перекладных»: пассажиры и груз доставлялись «семьдесят шестыми» на аэродром Кабула, а уже оттуда перебрасывались к месту назначения в Баграм и на другие аэродромы на борту Ан-12. Пассажиров, солдат срочной службы и офицеров, направлявшихся служить в Афганистан, доставляли преимущественно воздушным транспортом, выгодным как по соображениям оперативности, так и безопасности. Люди в тот же день прибывали к месту назначения, благо, как уже говорилось, большинство гарнизонов дислоцировались вблизи аэродромов, а провести час-другой даже на борту не очень комфортабельного «грузовика» было куда проще, чем добираться с колоннами по горным дорогам, где обстрелы и потери были каждодневным делом. Тем же образом летали в отпуск и возвращались домой исполнившие «интернациональный долг» (иным, правда, везло и удавалось попасть на рейс пассажирского Ил-18, время от времени курсировавшего на афганские аэродромы). В то же время к переброске личного состава воинских частей для проведения операций в том или ином районе транспортники привлекались лишь от случая к случаю. Прежде всего, задачи в полном объеме это не решало, поскольку рота, батальон или полк должны были выдвигаться со штатным вооружением и техникой, включая «броню» и артиллерию, отнюдь не являвшиеся авиатранспортабельными, а без них в боевых действиях нечего было делать. К тому же расстояния между афганскими провинциями были не так уж велики (весь Афганистан по размерам был меньше всякого нашего военного округа) и части достаточно быстро могли выполнить марш к месту назначения своим ходом. К числу немногих исключений относилась крупная операция, проводившаяся в северной провинции Фарьяб в январе 1982 г. Целью операции являлась «чистка» от душманских группировок района у провинциального городка Дарзаб, для чего требовалось привлечение значительного числа войск, перебрасываемых из других мест. В операции были задействованы также две эскадрильи Су-17, эскадрилья штурмовиков Су-25 и эскадрилья истребителей МиГ-21. Планировалась высадка воздушного десанта с вертолетов численностью 1200 человек, привлекалась авиация и части афганской армии. Переброску личного состава, боеприпасов и средств материально-технического обеспечения выполняли восемь Ан-12, производивших рейсы в Шинданд и Герат. В результате операции базовый район мятежников был уничтожен и впоследствии противником не восстанавливался. Ценой операции, помимо потерь в личном составе, были три сбитых вертолета. В подготовке и обеспечении запланированной на весну 1982 г. крупномасштабной операции в долине Панджшера задачи транспортной авиации были куда более объемными. Находившийся под боком у Кабула «освобожденный район», где безраздельно властвовал Ахмад Шах Масуд, выглядел настоящим вызовом властям, а значит, и 40-й армии. Молодой и энергичный руководитель, уже в 25-летнем возрасте получивший титул «главнокомандующего фронтами центральных провинций», располагал настоящим войском из нескольких тысяч бойцов и держал под контролем обширный район, в котором шла своя жизнь и куда не имели доступа официальные власти. Неприязни Кабула к удачливому лидеру добавлял его непререкаемый авторитет среди населения, где популярны были слухи о его сверхъестественной силе и прямом родстве с пророком Мухаммедом (само прозвище Масуд и значило «счастливый»). От государственной власти Масуд подчеркнуто дистанцировался, с неприязнью отказываясь от любых переговоров, однако соглашался на общение с советскими военными, ведя свою политику и получая определенные выгоды от негласных соглашений. Командующий 40-й армией генерал-лейтенант Б.В. Громов, в свою очередь, считал удачей «достаточно прочные контакты с Ахмад Шахом», отмечая, что «взятые на себя обязательства и договоренности Масуд, за редким исключением, выполнял». Будучи незаурядной личностью, Масуд отнюдь не являлся исламским фанатиком и имел широкий круг интересов: контактировавшая с ним советская военная разведка сообщала, что тот имеет неоконченное институтское образование (стать инженером-строителем ему помешал государственный переворот 1973 г.), с интересом относится к советскому образу жизни, знаком с трудами классиков марксизма-ленинизма и, придерживаясь в быту мусульманских традиций, в дружеском кругу не прочь как следует выпить, будучи в этом отношении «своим человеком». Тем не менее Ахмад Шах оставался противником, в отношении которого оставался в силе принцип: «Кто не с нами — тот против нас», а присутствие многочисленных и организованных вооруженных формирований, продолжавших расширять свою «автономию», требовало действий. В ночь на 26 апреля 1982 г. один из душманских отрядов предпринял огневой налет на авиабазу Баграма. Замысел не претендовал на какую-либо масштабность — небольшая группа, подобравшись с минометом под прикрытием «зеленки», выпустила дюжину мин по жилому городку и стоянкам. Первые мины упали у жилых модулей вертолетчиков 262-й эскадрильи, ранив часового. Затем противник перенес огонь на аэродромные стоянки, выпустив по ним оставшийся десяток мин. Осколками были задеты Су-17, один МиГ-21бис получил осколочное попадание прямо в лобовое бронестекло, повреждены оказались и несколько Ан-12 из 200-й эскадрильи. Поднявшаяся пара Ми-24 никого отыскать не смогла — отстрелявшись, душманы тут же растворились в темноте. По счастью, обошлось без погибших — на стоянках в поздний час не было людей, а нанесенный ущерб был невелик и в течение пары дней все машины удалось вернуть в строй. Тем не менее это не помешало западным информационным агентствам, со ссылкой на «надежные источники», через пару дней сообщить об «очередном успехе афганских борцов за свободу», которым удалось нанести серьезный урон советской авиации. Победная реляция звучала весьма внушительно, с подкупающей точностью насчитав аж 23 уничтоженных и выведенных из строя самолета и вертолета, в том числе три сгоревших Су-17. Рассказ в этой версии и сегодня имеет хождение в западной литературе на афганскую тему, причем, судя по размаху, похоже, что к повествованию о «разгроме авиабазы» приложили руку не только сами склонные к живописанию своих подвигов моджахеды, выступившие в роли «первоисточника», но и матерые западные ньюсмейкеры, живо соорудившие историю в духе Рэмбо и в привычном голливудском стиле: «из трех вражеских самолетов все десять были уничтожены». По настоянию кабульских властей было принято решение нанести отрядам Ахмад Шаха «решительное поражение путем проведения войсковой операции в Панджшере и прилегавших к нему районах», что подразумевало использование самых мощных сил и средств армии. Для ее осуществления привлекались части 108-й и 201-й мотострелковых дивизий, 103-й гв. воздушно-десантной дивизии, 191-го и 860-го отдельных мотострелковых полков, 66-й отдельной мотострелковой бригады, а также 20 афганских батальонов, с общей численностью около 12 тыс. человек. Операция проводилась с небывалым размахом, по фронту до 40 км и в глубину до 100 км, став одной из самых громких за всю афганскую войну. Как указывал заместитель главного военного советника в Афганистане генерал-лейтенант Д.Г. Шкруднев, «подобного рода боевых действий с применением таких сил и средств наши вооруженные силы не имели с 1945 г.». Для осуществления «Большого Панджшера» потребовался почти месяц — начатая 17 мая 1982 г. операция завершилась только 10 июня. ВВС 40-й армии участвовали в операции силами вертолетчиков 50-го, 181-го, 280-го и 335-го полков, поддержку с воздуха обеспечивали истребители-бомбардировщики 136-го апиб и истребители 27-го гв. иап, а также штурмовики 200-й штурмовой эскадрильи с общим числом более 120 самолетов и вертолетов. Транспортная авиация загодя начала подвоз боеприпасов и средств материально-технического снабжения, для чего задействовали полтора десятка Ан-12 и Ан-26, а также Ил-76. Поскольку авиационная группировка сосредотачивалась на аэродроме Баграм, лежавшем у самого входа в Панджшерскую долину, транспортники 50-го полка обеспечили переброску необходимых средств и техсостава с аэродромов базирования частей фронтовой и армейской авиации в Шинданде, Джелалабаде, Кандагаре и Кундузе. Потребовалось привлечь также пять Ан-12 из состава 200-й транспортной эскадрильи, занимавшихся преимущественно обеспечением и переброской частей афганской армии, которым ставилась задача блокирования проходов в долину и последующее прочесывание селений и местности на предмет поиска оружия и душманских складов. Об объемах завезенного имущества можно судить по количеству израсходованных авиацией боеприпасов в боевых вылетах в период проведения операции с 17 мая по 16 июня: расход авиабомб составил свыше 10500 штук (больше половины всего количества, потребовавшегося на целый предыдущий год), НАР — свыше 60000, управляемых ракет — свыше 550 (речь шла о вертолетных ПТУР «Штурм» и «Фаланга»), патронов к авиационным пушкам и пулеметам — до полумиллиона. По завершении операцию сочли успешной, а задачи — выполненными. Потери противника по докладу штаба 40-й армии, составили «несколько тысяч мятежников» («кто их, басурманов, будет считать»), однако сам Масуд подтвердил репутацию везучего и сообразительного командира и вновь ушел. Дальнейшие события показали, что военный успех — это далеко не все. Оставшиеся в Панджшере афганские войска и восстановленная «народная власть» продержались там всего несколько недель и скорее покинули негостеприимный район, где снова воцарилась власть Ахмад Шаха, в кратчайшее время сумевшего восстановить свои силы. В результате следом за первой операцией уже в конце лета пришлось проводить следующую, длившуюся две недели с теми же, в общем-то, результатами. По итогам «Большого Панджшера» было составлено много отчетов, обобщавших опыт боевых действий, и даже проведена военно-научная конференция Минобороны. Данные в докладах и отчетных документах изрядно разнились, даже приводимое количество привлеченных к операции войск различалось раза в два. Довольно забавными выглядели цифры, приведенные в изданном Главным Политуправлением сборнике и относившиеся к работе фронтовой и армейской авиации — кто-то из кабинетных политработников, не шибко сведущий в матчасти, в оценке результатов причислил участвовавшие в операции истребители к вертолетам (!), видимо, введенный в заблуждение созвучием названий «МиГ» и «Ми». В том же труде присутствовала и другая любопытная цифра: по итогам операции орденами и медалями были награждены 400 военнослужащих, из них 74 политработника — каждый второй из находившихся в частях, притом что общее число замполитов и партполитработников всех рангов в войсках составляло около 1%, а среди прочих солдат и офицеров в числе награжденных был едва один из трехсот — то ли «организующая и направляющая сила» была достойна более других, то ли просто умела не забыть себя, составляя представление на ордена... Предпочтительное использование транспортной авиации в снабжении и прочем обеспечении действий авиационных частей 40-й армии было вполне обоснованным: те получали все требуемое, включая боеприпасы, запчасти, продовольствие и предметы материально-технического обеспечения прямо «к порогу» и они доставлялись непосредственно на аэродромы базирования без многократных перегрузок, складирования и волокиты, неизбежной при прохождении заявок через армейские службы тыла. Инженерным отделом управления ВВС 40-й армии на этот счет приводилась цифра: «Подача авиационно-технического имущества, а также вывоз ремфонда осуществляются, в основном, воздушным транспортом (до 90%)», причем многие крупные и особо громоздкие агрегаты для ремонта авиатехники и замены вообще не предоставлялось возможным доставить автотранспортом — к примеру, вертолетные редукторы и втулки винта к Ми-6 или «восьмерочные» лопасти несущего винта двенадцатиметровой длины в комплекте с ложементами никакой грузовик не брал, в то время как для Ан-12 такой груз был вполне приемлем. К прочим проблемам служб тыла причисляли постоянный выход автомобильной техники из строя по боевым повреждениям, «существенно влиявший на качество технического обеспечения по службам тыла авиации армии» — каждый день на дорогах от душманских нападений горели грузовики и автоцистерны. В то же время «продовольственное снабжение по летной и технической норме» с постоянством оставляло желать лучшего, оставаясь крайне однообразным и неполным, но вины транспортников в том уж точно не было. Напротив, транспортные самолеты оставались практически единственным средством подвоза мяса и других свежих продуктов, не только скоропортящихся, но и обычной картошки и других овощей, которые просто не могли выдержать долгого путешествия по дорогам. Однако даже на пятом году афганской компании руководством ВВС 40-й армии отмечались «существенные нарушения в организации питания», «нерешенность многих вопросов продовольственного обеспечения и несоответствие нормам летного и технического пайка» и «низкое качество и неполноценность приготовления пищи», а попросту говоря — опостылевшие макароны и каши, набившая оскомину тушенка, супы из консервов, а подчас и отсутствие обычного хлеба, заменяемого галетами фанерной твердости и сухарями из запасов еще военных лет. С боеприпасами таких проблем не было — боепитание являлось задачей первой необходимости, и заявки на него удовлетворялись без промедления. Когда по улицам Ташкента или Ферганы к аэродрому шли тяжело груженые армейские грузовики с прицепами, забитыми решетчатыми упаковками, всякий местный житель знал — армии снова понадобились бомбы, и утром она их получит. Все машины ВТА штатным образом были приспособлены к перевозке авиационных средств поражения, для чего имелись соответствующие нормативы на загрузку самолетов различных типов. Ан-12 обеспечивал погрузку и перевозку 45 бомб-«соток» или 30-34 бомб калибра 250 кг, в зависимости от их типа и размерности; бомб калибра 500 кг самолет брал 18 штук, а бомбовых кассет этого калибра принимал 20-22 (правда, бомбы современной модели М-62, имевшие обтекаемую форму и удлиненный корпус, занимали больше места и по этой причине их можно было загрузить вдвое меньше, из-за чего они поступали ВВС 40-й армии в ограниченных количествах — их просто избегали заказывать, чтобы самолеты не «возили воздух», предпочитая отгружать авиабомбы более компактных образцов). Бомбы считались достаточно простым грузом: упакованные в бомботару из деревянного бруса «бочонки» закатывались в самолет прямо из кузова грузовика или грузились целыми связками с помощью двухтонной кран-балки, после чего их швартовали с помощью тросов и клиньев, чтобы те не раскатывались в полете. Реактивные снаряды и патроны требовали больше хлопот. НАР типа С-5, как и авиационные патроны, шли в увесистых ящиках весом 60-70 кг, которые приходилось таскать вручную, для чего привлекалась команда из десятка солдат. В грузовой кабине Ан-12 штатным образом размещались 144 ящика с «эс-пятыми» либо 34 упаковки крупнокалиберных снарядов С-24, 144 ящика с патронами калибра 23 мм или 198 ящиков с патронами к 30 мм пушкам. Погрузкой руководил борттехник самолета, следивший за размещением груза для сохранения нормальной центровки. Штабеля можно было укладывать до четырех ярусов в высоту, крепя их с помощью тросов и швартовочных сеток, которые затягивались потуже, чтобы груз не разъезжался. Для аэродромов в центральной и восточной части страны запасы авиационных боеприпасов завозились по воздуху из Ташкента и наземным транспортом с перевалочной базы в Хайратоне у советской границы, куда подходила железнодорожная ветка. Кандагар и другие южные аэродромы снабжались преимущественно воздушным транспортом прямо из Союза или с использованием базы в Шинданде, куда они доставлялись с приграничной перевалочной базы снабжения Турагунди у Кушки. Объемы работ одного только автотранспорта по подвозу авиационных боеприпасов и авиационно-технического имущества для авиации 40-й армии по расходу сил и моторесурса вдвое превосходили аналогичные затраты на снабжение всех ВВС ТуркВО. Помощь транспортников была обязательной и при перебазировании и замене авиационных частей. Поскольку те сменялись в составе ВВС 40-й армии с годичной периодичностью, ротация требовала привлечения самолетов ВТА. Авиатехника сменявшейся части возвращалась домой своим ходом, либо оставалась на месте, передаваемая новой группе (такая практика использовалась у штурмовиков и в вертолетных частях], однако прибывавший личный состав, средства наземного обслуживания и многочисленное материально-техническое имущество требовалось доставлять к новому месту службы, из-за чего первое знакомство с Афганистаном практически у всех авиаторов было связано с перелетом на транспортном самолете. Так, для перебазирования одного только личного состава истребительного авиаполка на МиГ-23, с лета 1984 г. сменивших в ВВС 40-й армии прежние «двадцать первые», включая инженерно-технический состав, группу управления и части обеспечения, требовалось выполнить пять рейсов Ан-12. Комплектное имущество с необходимыми стремянками, оборудованием, подъемными и буксировочными средствами, контрольно-проверочной аппаратурой эскадрилий и ТЭЧ делало необходимым выполнение 30-35 рейсов Ан-12. Реально задачу несколько упрощало то, что части направлялись в ВВС 40-й армии не полным составом: смена производилась одной-двумя эскадрильями с минимумом необходимых средств обслуживания, а часть наиболее громоздкого стационарного имущества и автотехника оставались от предыдущей группы. Перевалочными аэродромами при перелете к новому месту службы обычно являлись Ташкент, Фергана и Кокайты, где для пропуска личного состава «в заграницу» оборудовали пограничные и таможенные пункты (война войной, а порядок на этот счет предписывалось соблюдать неукоснительно). Если «за речкой» погранично-таможенные формальности выглядели все больше условными и штемпель в документы о пересечении границы ставился иной раз прямо под крылом самолета, то дома возвращающихся «бойцов-интернационалистов» ожидал куда более строгий прием с дотошным просмотром привезенного с собой багажа (не зря говорили, что гимном таможни является «А что у вас, ребята, в рюкзаках?»). При ретивом подходе «защитников границы» среди личных вещей изыскивалось всякое добро, тянувшее на контрабанду — как-никак, убогая и нищая восточная стана ошарашивала непривычного советского человека изобилием товаров в лавках-дуканах, от парфюмерии и вожделенных джинсов до предела мечтаний — ковров и дубленок (как гласила ходившая в те годы поговорка: «Если женщина в «Монтане» — значит, муж в Афганистане»). Даже солдатское жалованье в размере четырех рублей с копейками выплачивалось внешнеторговыми чеками — почти валютой, которой за два года службы хватало, в лучшем случае, на портфельчик-«дипломат», служивший непременным атрибутом «дембеля-афганца», те же джинсы и узорчатый платок в подарок домашним. Более оборотистый народ званием постарше и, особенно, многочисленные гражданские специалисты изобретали всевозможные хитроумные способы поправить материальное положение и разжиться дефицитной электроникой, желанным ковром и полушубком. Гражданских «спецов» и советников разнообразного толка, командированных в Афганистан за желанными чеками и ширпотребом (кто не помнит — под этим словообразованием имелась в виду группа товаров широкого потребления, включавшая одежду, мебель и прочее добро, неизбывно дефицитное на родине), вообще среди пассажиров было до крайности много — автор своими глазами видел летевшего в Кабул советника по сантехническим вопросам, которого встречавший афганец уважительно именовал «шайзе-мастер». При возвращении весь этот народ, обремененный нажитым добром, тут же принимала таможня, пройти которую стоило немалых потерь. Справедливости ради, надо сказать, что таможенные строгости имели свое обоснование, как для пресечения возможного ввоза оружия из воюющей страны, так и ввиду всемирной известности Афганистана как источника наркотиков, издавна производившихся в этом регионе (неслучайным выглядело совпадение подъема наркомании в нашей стране и возвращения первых побывавших «за речкой»). Резонно предполагалось, что контрабанда может быть связана с транспортными перевозками на афганском направлении; такие случаи действительно имели место и пресекались с предусмотренными Уголовным Кодексом последствиями, о чем докладывалось уже на коллегии Минобороны СССР в феврале 1981 г. с участием представителей МВД, КГБ и ЦК КПСС. Предупреждая их, командующий ВТА и Главкомат ВВС издавали предостерегающие приказы, а на местном уровне командиры объясняли просто: «У кого найдут что-нибудь больше авторучки — вылетит из армии». Особый акцент на состояние дел именно в авиационных частях был вполне объясним: выполняя частые рейсы в Союз и периодически перегоняя туда технику для ремонта, экипажи бывали на своей стороне куда чаще и имели возможности, которых были лишены военнослужащие других родов войск. Слов из песни не выкинешь, и на спекулятивных сделках попался даже экипаж личного самолета Министра обороны Д.Ф.Устинова. Летчики Ил-18, служившие в элитном правительственном отряде, промышляли торговым бизнесом с приличествующим рангу размахом. Как было установлено следствием, промысел был начат в октябре 1980 г. с того, что экипаж для образования начального капитала сбросился по 100 рублей, закупив на всю сумму водки. Денег хватило на 160 бутылок водки «Русская», которая была сбыта советским воинам в Кабуле и Шинданде, принеся выручку более чем в две тысячи рублей — по тем временам весьма немалую сумму. Обратными рейсами в Союз обычно завозили дубленки, шелк, женские платки, непременные джинсы и бытовую радиоаппаратуру. Самолет для этого прошел необходимую «доработку» — говоря казенным следственным языком, «товары размещались в конструктивно-технологической емкости, имеющейся между обшивкой багажного грузоотсека и корпусом фюзеляжа самолета», для чего снимали панели внутренней обшивки и туда прятали очередную партию груза. Объемы операций росли, достигнув размеров, подпадавших под определение «контрабанды в крупных размерах». В ходе следствия было выявлено, что случай носит далеко не единичный характер, и в этом промысле заняты десятки летчиков из разных экипажей. Показательно, что практически у всех доставляемый на афганские аэродромы «несанкционированный груз» являлся почти исключительно водкой — продуктом с гарантированным спросом. Товар расхватывался с руками, а стоимость водочной бутылки окупала все старания — при закупочной цене в 5-6 рублей на месте водка уходила аж за 25-30, а в праздничные дни и до 100 чеков, и это при том что валютный чек ценился в два с лишним рубля, на зависть марксовым капиталистам давая десятикратный доход (а классик политэкономии считал, что при 300% прибыли «нет такого преступления, которое капитализм не готов был совершить»). Фактами контрабандной деятельности военнослужащих ВТА занималось КГБ СССР, в результате расследований тогда прошло более десятка судебных процессов. Введу того, что оступившиеся в содеянном чистосердечно раскаивались и добровольно и полностью возместили государству средства, полученные ими в результате незаконных сделок, наказания были вынесены относительно мягкими, с заключением на сроки от 4 до 5 лет и лишением воинских званий.  Признав принадлежность к военно-транспортной авиации, на этом Ан-12БП закрасили прежние «аэрофлотовские» обозначения и нанесли военную маркировку. Однако мысли командования неисповедимы и иногда делалось наоборот Тем не менее, спрос на спиртное в Афганистане не пропал, хотя официальных каналов завоза не существовало. Считалось, что в воюющей армии алкоголю не место и всякий должен быть в любое время готов к несению службы. Однако же исключительно лимонадом и леденцами из военторговского магазина наш человек довольствоваться не мог, изыскивая всяческие способы разнообразить досуг. Помимо универсального средства «расслабиться и отдохнуть», спиртное имело славу лекарственного средства, способного компенсировать недостатки питания и предохранить от желудочных болезней и гепатита — бича здешних мест. Даже прибывший на должность Главного военного советника генерал-лейтенант М. Гареев, по собственному опыту пребывания в жарких странах, говорил об «удовольствии и необходимости спиртного», что «дезинфицирует организм и предохраняет от кишечно-желудочных заболеваний». Несмотря на все запретительные меры, в большинстве своем командиры были нормальными людьми, с пониманием относившимися к потребностям личного состава и к излишнему морализаторству не склонялись. По словам замкомандира Баграмской 263-й разведэскадрильи майора В.Н. Поборцева, летчика-снайпера с 303 боевыми вылетами, «но войне люди живут не одними боевыми действиями, когда было время — отдыхали, отмечали праздники, ведь почти каждую неделю у кого-то день рождения, приказ на очередное звание, награды и прочее, как полагается по православному обычаю. Поэтому на любом мероприятии по три рюмочки от взрывателя — закон: первый тост — за победу, второй — за конкретный повод, третий — молча и без слов, за тех, кого уже с нами нет (а у нас в эскадрилье было четверо погибших летчиков). Частенько просили соседей-транспортников привезти из Союза «Советское Шампанское», и они привозили из Ташкента по 5 рублей с полтиной. Привозили нам ребята-транспортники и водку из Союза. Но особенно мы загружались впрок, когда пригоняли из ремонта в Чирчике свои МиГ-21Р, в обязательном порядке привозя и селедку в пятикилограммовых банках. У транспортников заказать можно было все, да и дружили с ними, ведь рядом летали и узнавали в эфире друг друга по голосам. Я даже слетал на правом сиденье Ан-12 с их комэска, хоть и ощущения после МиГа были не очень приятными — на посадке, по сравнению с нашим самолетом, «плывешь» очень медленно и дольше находишься в зоне возможного поражения». «Природа не терпит пустоты», и всякий знал, что за «огненной водой» надо обращаться к транспортникам. Каждый грамотный авиатор знал истинные возможности своей машины, имевшей множество укромных мест, от технологических отсеков до всякого рода «загашников», пригодных для размещения «товара повышенного спроса» (к слову, популярная легенда о том, что спиртное иной раз перевозили и штурмовики в блоках реактивных снарядов Б-8, якобы как раз подходящих по калибру под вожделенные бутылки, является не более чем выдумкой, не выдерживающей никакой критики — водочная посуда имела «калибр» 82 мм и никак не могла поместиться в стволах блока с диаметром только 80 мм и, тем более, 57 мм блоках УБ-16 или УБ-32; кроме того, перевозке «ценного продукта» в негерметических отсеках боевых самолетов, летающих на гораздо больших высотах, препятствовало и знание физики на школьном уровне — с набором высоты из-за разрежения воздуха пробку вышибало вместе с содержимым). Заменителем выступал спирт, за которым шли к тем же авиаторам. На авиатехнике спирт использовался в различных целях — в качестве противообледенителя, в системах охлаждения радиооборудования и выдавался при работах с аппаратурой и электроникой (к слову, действовавшим ГОСТом предусматривалось целых шесть разновидностей «аква вита», включая и предназначенный для медицинского применения «спирт этиловый питьевой»). Правда, аэродромный люд, прибегая к популярному средству проведения досуга, придерживался пословицы «пей да дело разумей» и отлеживаться по причине «перебора» считалось великим позором. На выручку приходили и более экономные способы: как говорилось в упомянутом документе ГлавПУРа, «широкое распространение в войсках 40-й армии получили пьянство и самогоноварение», а также прочие народные рецепты, наподобие браги из пайкового сахара, сока и варенья, в жару «доходившей» почти мгновенно, «кишмишовка» с использованием всяких фруктов и даже продукт, известный как «карбидовка» — «сахар плюс дрожжи, с добавлением карбида для быстроты брожения и для бурчания, дающего ударное средство для головной боли». Как-то в ташкентском аэропорту при погрузке в Ан-12 следовавшей в Афганистан смены авиаторов проверяющий обратил внимание на странный багаж у одного из прапорщиков. Хозяйственный товарищ, уже не первый раз направлявшийся для исполнения интернационального долга, имел при себе один только объемистый футляр от аккордеона, под завязку набитый упаковками дрожжей. На вопрос: «Куда тебе столько?» владелец с приличествующей сдержанностью отвечал: «Булочки буду печь». При всей благости намерений и уставной обоснованности борьба за искоренение спиртного в войсках имела свою удручающую сторону: похоже, никто из командования не обращал внимания, что запреты обернулись тем, что основными факторами в смертности личного состава 40-й армии по причинам небоевого характера, после санитарных потерь и неосторожного обращения с оружием, являлось употребление всевозможных спиртосодержащих ядовитых жидкостей. С особым рвением борьбу с алкоголем стали вести после печально известного горбачевского «указа о трезвости». Попавшихся на употреблении спиртного, даже малой толики, запросто могли досрочно «выгнать с войны» и отправить в Союз без льгот и заслуженных наград. В 50-м осап в декабре 1986 г. домой выслали троих летчиков, уличенных «в запахе» и на свою беду заглянувших в политотдел части. Оказались они там по случаю — подписывали обходной лист перед завершением 15-месячной афганской командировки. История была тем более скандальной, что до замены им оставалось два дня (!), однако начальство «пошло на принцип» и распорядилось в назидание остальным отправить провинившихся домой с первым же бортом. Ан-12БК из состава 50-го полка на аэродроме Кандагара. На заднем плане - вертолеты здешнего 280-го ОВП. Зима 1987 года Силами транспортной авиации в Афганистане осуществлялся вывоз раненых и заболевших из госпиталей. Первое время для эвакуации тяжелобольных и раненых привлекались пассажирские самолеты гражданской авиации - переоборудованные по мобилизационному плану Ил-18 из разных отрядов и управлений МГА. Позже этим занимались «аэрофлотовские» Ту-154, однако у гражданских пассажирских самолетов, наряду с достаточной комфортностью, имелся изрядный недостаток - входная дверь на порядочной высоте, являвшаяся буквально узким местом, куда по трапу большого труда стоило поднять носилки, да и для пострадавших на костылях трап был неодолим, и вносить их надо было на руках. Специальный медицинский Ан-26М «Спасатель» был куда удобнее, хотя имел ограниченную вместимость. На выручку приходили обычные транспортники: пусть без особых удобств, но одним рейсом Ан-12 мог переправить 50 - 60 человек. Однако карьере Ан-12 в качестве санитарного препятствовали негерметичность и практически полное отсутствие отопления кабины, в буквальном смысле грузовой, в которой и здоровому человеку приходилось не очень уютно, из-за чего в этих целях его задействовали нечасто. Чаще в этой роли выступал Ил-76, гермокабина которого и нормальная система кондиционирования обеспечивали пострадавшим меньше проблем (хотя и удобств полет в грохочущем, наглухо закрытом грузовом отсеке, прямо сказать, доставлял немного). Еще об одной роли Ан-12 слышали даже люди, далекие от авиации и военного дела. Известный всякому по песням Розенбаума «черный тюльпан» — это тоже Ан-12. «Черный тюльпан» имел свою историю: войны без потерь не бывает -эта истина подтвердилась с первых же недель афганской кампании: чем дальше, тем больше росло число погибших, а потому встал вопрос об организации их доставки на родину. Приказом по 40-й армии уже с первых дней было установлено, чтобы ни один погибший или раненый не был оставлен на поле боя - говоря словами командующего армии генерал-лейтенанта Б.В. Громова, «живой или мертвый, каждый должен быть обязательно возвращен». Вопрос о похоронах погибших в Афганистане рассматривался на самом высоком уровне Политбюро ЦК КПСС. Поначалу для павших на далекой войне предлагалось устроить свое кладбище где-нибудь под Ташкентом, подобно американскому Арлингтону, служащему местом захоронения всех погибших военнослужащих, однако в конце концов решили, что такой приметный мемориал сооружать нецелесообразно. Вместе с тем это решение означало необходимость организации доставки тел погибших для похорон по месту жительства или призыва, а эти места назначения охватывали всю территорию страны, находясь за тысячи километров от места службы. Первый рейс с «грузом 200» был выполнен уже 29 декабря 1979 года. Это были 11 погибших при захвате дворца Амина и других объектов в Кабуле, за которыми прибыл Ан-12 майора Каримова из 194-го втап, доставивший их в Самарканд и, затем, в Ташкент, откуда первых погибших на той еще неизвестной войне отправили к местам последнего пристанища. Такой путь с пересадкой понадобился по причине того, что только центральный окружной госпиталь Ташкента обеспечивал подготовку тел к длительной транспортировке с запайкой в цинковый гроб — тот самый «цинк», приобретший вскоре печальную известность. Всего в декабрьских событиях 1979 года при вводе войск погибли 86 солдат и офицеров, из них 70 - по боевым причинам. Армия ввязывалась в войну, и трагический счет потерь стал стремительно нарастать. Для вывоза «двухсотых» в иные по-настоящему черные дни приходилось выделять по нескольку самолетов. В одном только бою в Кунарской операции за день 2 марта 1980 года погибли 24 десантника 317-го парашютно-десантного полка 103-й дивизии. В конце лета тяжелыми последствиями завершился боевой выход разведбатальона кундузской 201-й мотострелковой дивизии. Выдвигаясь 3 августа 1980 года на выполнение задачи под Кишимом, разведчики попали в засаду на горном карнизе. Оказавшийся на открытом уступе батальон противник расстреливал кинжальным огнем с разных сторон. На помощь поднялись вертолетчики из Файзабада, однако когда через сорок минут они оказались на месте, всё было кончено. В коротком бою погибли почти все бойцы - 47 человек, уцелели лишь трое раненых, сумевших укрыться и не замеченных душманами. В последующие несколько лет это были самые большие однодневные потери 40-й армии при ведении боевых действий, однако с началом проведения масштабных операций и они были превзойдены. Действующим указанием Генштаба предписывалось обеспечить доставку и похороны погибших на родине не позднее семи дней после гибели. Чтобы уложиться в указанные сроки, к выполнению задачи требовалось привлечь транспортную авиацию того же 50-го авиаполка и других частей ВТА, выполнявших рейсы в Афганистан. Между тем уже в 1980 году число погибших каждый месяц составляло 100-120 человек, возрастая в ходе иных крупных операций вдвое и больше. По санитарным соображениям «груз 200» отправлялся в цинковых гробах в деревянной упаковке, обеспечивавшей сохранность герметичного «цинка», и весил около 200 кг. Для их переправки в Союз служили четыре точки - Кабул, Кандагар, Кундуз и Шинданд, при госпиталях которых оборудовали специальные сварочно-эвакуационные отделения. Определение с буквальной точностью описывало суть их работы с подготовкой тел погибших и обязательным запаиванием непроницаемого «цинка», которому предстоял долгий путь на родину. Персонал туда набирался в добровольном порядке, в основном, из числа учившихся в медицинских заведениях и проходивших практику в морге, при условии должной психологической устойчивости. Прочий регламентированный боевым уставом церемониал с назначением полкового или дивизионного оркестра для прощания с погибшими соблюдался от случая к случаю, обычно считаясь излишним - отправку предписывалось производить «лаконично и скоро», а сами гробы сопровождать надписью «вскрытию не подлежит». Сами «цинки» изготовлялись специальной мастерской в Ташкенте. Одно время целые штабеля подготовленных к отправке в Афганистан гробов громоздились прямо у стоянок аэродрома в Тузеле и возили их туда теми же транспортными самолетами. Потом кто-то из начальства сообразил, что такое соседство не очень воодушевляет личный состав, и мрачный груз вывезли на окружные склады, откуда «цинки» доставлялись в сварочно-эвакуационные отделения госпиталей 40-й армии. Из тех же соображений отправка погибших в Союз организовывалась специальными рейсами на отдельно выделяемых бортах, при которых павших к месту похорон сопровождал кто-либо из офицеров части. Причина выбора Ан-12 в качестве самолета с мрачной славой имела вполне прозаическое объяснение: привлекать для этой задачи Ил-76 сорокатонной грузоподъемности было не самым приемлемым вариантом, да и забирать «груз 200» он мог лишь с ограниченного числа аэродромов, в то время как Ан-26, напротив, имел малую вместимость для работы с довольно громоздкими «цинками». Ан-12 для этой службы являлся наиболее подходящим, имея возможность облетать практически все точки и обеспечивая загрузку 18 мест такого груза. Чтобы избежать множества перегрузок, маршрут прокладывался по всему Союзу, с посадками в местных аэропортах, откуда гробы доставлялись к месту жительства родственников, но при небольшом количестве мест груз, бывало, сдавали в Ташкенте на самолеты «Аэрофлота» или в обычный багажный вагон пассажирского поезда и тот добирался к месту захоронения неделями. По поводу самого названия «черный тюльпан» существует множество версий, сообразно самой мрачности тематики. Наиболее вероятным представляется его восхождение к принятой афганской армии традиции печатать в военных газетах некрологи и фото погибших в обрамлении орнамента из черных цветов - степных тюльпанов. Счет боевым потерям ВТА был открыт в 1983 году. До той поры работавшие в Афганистане транспортники обходились лишь повреждениями техники, иной раз достаточно серьезными, но без фатальных исходов. Однако растущая активность душманов и все лучшее оснащение их вооружением делали ожидаемые последствия реальностью. По разведданным, количество зенитных средств у противника все возрастало, продумывались и изобретательно оборудовались зенитные позиции со средствами маскировки, использовались кочующие средства ПВО на автомашинах, отмечалось появление огневых точек на господствующих высотах по маршрутам полетов авиации, налаживалось связь с постами оповещения и управления с помощью радиостанций, а в учебных лагерях специально была развернута подготовка стрелков-зенитчиков (к слову, один из лидеров оппозиции Туран Исмаил действительно был бывшим капитаном правительственных войск - «туран» в афганской армии означал капитанское звание, - командовал зенитным подразделением и перешел на сторону мятежников вместе со своей частью в дни гератского мятежа). Количество неизбежно переходило в качество: уже начиная с 1982 года было отмечено, что душманские отряды перестали, как прежде, с наступлением холодов уходить на зимовку за границу и рассеиваться по кишлакам, пережидая нелегкую в горах зиму. Теперь, опираясь на оборудованные базы и лагеря, вооруженную борьбу продолжали активно вести и в зимние месяцы. Подтверждением этому стали растущие потери авиатехники: если в январе-феврале 1981 года не было сбито ни одного самолета и вертолета, то за те же месяцы в начале 1982 года боевые потери составили сразу 7 машин, по большей части пораженных ДШК и ЗГУ. Основная же масса потерь и тяжелых повреждений авиатехники по-прежнему приходилась на летний период, что в значительной мере усугублялось ухудшением летных характеристик в жару и, особенно, крайней неблагоприятностью жаркого сезона для здоровья и работоспособности летчиков, самым непосредственным образом сказываясь на функциональном состоянии, быстрой утомляемости и общем снижении боеспособности. Измотанным людям попросту трудно было и воевать, и работать, следствием чего становились растущее число ошибок, аварийность и боевые потери. Учитывая, что в Афганистане жаркая погода стоит с мая по октябрь, в 1982 году на этот период пришлось две трети всех потерь самолетов и вертолетов (24 из 30), в 1983 году их доля составила уже 70% (22 из 32).  Ан-12 идет на посадку в Кандагаре Показательно, что на те же летние месяцы выпали все потери и тяжелые летные происшествия с Ан-12. 1 июля 1983 года при ночном обстреле на стоянки самолетов столичного аэродрома упали полтора десятка мин, следующей серией накрыло и жилые модули Кабульского авиагородка. Одним из первых же разрывов задело группу техников, выскочивших из модуля, под крыльцо которого и попала мина. По счастью, обошлось только ранениями, но суматохи обстрел наделал предостаточно. Один из очевидцев вспоминал: «Выскакиваю в коридор, всюду суета и беготня, никто не понимает и не знает, что делать. На носилках уже несут раненых, в темноте перепутали жилой барак с санчастью. От разрыва зажигательных мин разлетается светящийся вонючий фосфор, попадает на подошвы, и в ночи только и сверкают подметки пробегающих людей». Транспортники могли считать, что им тогда и вовсе повезло: летчики 1-й эскадрильи 50-го полка ушли к друзьям на день рождения, а буквально через пять минут прямым попаданием в центр модуля разнесло опустевшую комнату вместе со стоявшими в ней кроватями. Если при обстреле столичного аэродрома все обошлось почти благополучно, то уже на другой день, 2 июля 1983 года, счет потерь открыл Ан-12, сбитый противником у Джелалабада. Город славился не только субтропическим климатом с чрезвычайной даже по здешним меркам жарой и влажностью, пальмовыми рощами и фруктовыми садами, но и подходившей к самому аэродрому населенной «зеленой зоной» - непролазными зарослями, откуда нередкими были обстрелы стоянок и городка, причем из-за близости «зеленки» самолеты и вертолеты попадали под огонь едва ли не прямо под полосой. Известна была поговорка: «Если хочешь жить как туз - поезжай служить в Кундуз, если хочешь пулю в зад - поезжай в Джелалабад». Вдобавок, и полоса джелалабадского аэродрома была короткой, требуя особого внимания на взлете и посадке — стоило промедлить, самолет мог выскочить с ВПП и зарыться в песке. В этот раз транспортник, шедший рейсом на Кабул со строительными материалами, не получил «добро» на посадку по метеоусловиям и был отправлен в Джелалабад. Дождавшись там погоды, экипаж майора Виктора Дружкова вылетел к месту назначения. Соблюдение наставлений по метеообеспечению обернулось драматическими последствиями: самолет был обстрелян на взлете и потерял управление (возможно, поражены были летчики в кабине, по другой версии, очередь ДШК задела один из крайних двигателей, винт не успел зафлюгироваться и машину стало разворачивать). Самолет с креном понесло на скалы и он разбился недалеко от аэродрома. Машина сгорела почти полностью, и среди груды чадящих обломков нетронутыми выглядели валявшиеся бобины колючей проволоки, несколько тонн которой шли с грузом стройматериалов на борту самолета. Среди погибших пассажиров были специалисты ВВС ТуркВО и подполковник И.Б. Меркулов, старший инспектор-летчик управления ВВС 40-й армии. Экипаж оставался на связи вплоть до падения самолета, а сама катастрофа произошла прямо на глазах у находившихся на аэродроме: ...Черный тянется шлейф за хвостом самолета, Мы на скалы идем, на ужасный таран. Здесь уже не поможет сноровка пилота, Жизнь уже позади... Будь ты проклят, Афган! Следом произошло происшествие на аэродроме Хост. Сообщение с городом, лежавшим у самой пакистанской границы, поддерживалось преимущественно по воздуху. Хотя он находился в каких-то полутора сотнях километров от Кабула, но по афганским меркам считался весьма удаленным и добираться туда стоило немалых трудов. К Хосту вела единственная горная дорога, забиравшаяся на трехкилометровой высоты перевал, зимой часто вовсе непреодолимый, из-за чего «протолкнуть» к городу колонну с грузом было целой задачей, тогда как воздушные сообщения поддерживались более-менее регулярно. Обстановка в Хосте характеризовалась как «стабильно сложная»: к соседнему Пакистану город был открыт, чем и пользовалась оппозиция, действовавшая в округе совершенно беспрепятственно. Будучи каналом проникновения душманских отрядов в центральные провинции и их опорой на многочисленные здешние базы, Хостинский выступ приобретал высокое значение в оперативном отношении, из-за чего афганцы держали здесь целое войсковое соединение - 25-ю армейскую пехотную дивизию. Аэродром Хоста был импровизированным, представляя собой кое-как укатанную грунтовую полосу, позволявшую садиться транспортным самолетам. В этот раз, 20 августа 1983 года, полет выполнялся экипажем, недавно прибывшим в Афганистан, и навыки летчиков для работы в такой обстановке были весьма ограниченными. Подход к аэродрому предписывалось строить с одного направления, со стороны гор, подступавших к городу. Этот подход был не самым удобным, изрядно осложнял посадку, но позволял избежать риска выскочить «за ленточку» границы, лежавшей все- го в 15-20 км и подковой с трех сторон окаймлявшей город. При заходе на посадку летчики изрядно промазали с расчетом и сели с перелетом, из-за чего их Ан-12БП выкатился с полосы и получил множественные повреждения. Особенно досталось шасси и фюзеляжу, помятому по всей нижней части. Пострадала кабина экипажа и средняя часть фюзеляжа, как обшивка, так и некоторые каркасные части, тем не менее летчики остались целы. Самолет и без того был самым «пожилым» в полку, имея почтенный возраст - он прослужил уже 20 лет, однако состояние машины признали удовлетворительным для восстановления. Наскоро устранив основные повреждения на месте, самолет перегнали в Фергану. Перелет прошел с выпущенными шасси, убирать которые не рискнули из-за состояния машины, и без того державшейся «на честном слове». Ремонт выполнялся совместными силами воинской части и бригады ташкентского авиазавода, для решения ряда сложных вопросов пришлось вызывать и представителей ОКБ Антонова. Восстанавливали самолет больше полугода, потребовалась замена многих агрегатов, но в конце концов его вернули в строй. Прошло всего четыре недели, и произошло новое происшествие с Ан-12 200-й эскадрильи, на этот раз с куда более тяжелыми последствиями. 16 сентября 1983 года самолет Ан-12БП с экипажем летчика 1-го класса капитана A.M. Матыцина из ферганского полка выполнял рейс с грузом почты в Шинданд. При заходе на посадку самолет был обстрелян и получил повреждения - экипаж доложил о сбоях в работе 4-го двигателя. Дело усугублял боковой ветер у земли, сносивший самолет как раз в сторону поврежденного двигателя. Машина коснулась земли в пятистах метрах от начала полосы с изрядной перегрузкой, буквально ткнувшись в землю. В результате грубой посадки на самолете лопнули пневматики левой стойки шасси, и его резко потянуло в сторону. Потерявшую управляемость машину вынесло с полосы влево, прямо на стоянку Ми-6, находившуюся у середины ВПП. При столкновении самолет взорвался, а последовавшим пожаром были уничтожены и злосчастный транспортник, и оказавшийся на пути вертолет. Стрелок кормовых пушек, увидев, что под самолетом мелькает уже не бетонка, а грунт, тут же сориентировался и принял спасительное решение: дернув за ручку аварийного люка, он вывалился из самолета за секунду перед ударом и взрывом. Прокатившись по земле, прапорщик Виктор Земсков с переломами и ушибами не мог даже отползти от бушующего пожара, где гибли его товарищи. И все-таки стрелок мог считать, что ему крепко повезло - он был единственным, выжившим в катастрофе. Никому из членов погибшего экипажа не успело исполниться и тридцати лет... Словно по наущению, очередное происшествие приключилось ровно через месяц и снова в Хосте. При всем значении здешнего аэродрома, на нем не было советского гарнизона, не несли дежурство подразделения авиации 40-й армии и рассчитывать на вертолетное прикрытие там не приходилось. 16 октября 1983 года прибывший в Хост Ан-12БП капитана Залетинского из состава 200-й отаэ стоял под разгрузкой, когда начался минометный обстрел аэродрома. Первые же разрывы накрыли стоянку, изрешетив самолет осколками. Ранения получили трое из пяти членов экипажа, однако летчики решили использовать оставшуюся возможность и уходить из-под огня. Прервав выгрузку и один за другим запуская двигатели уже на рулении, летчики вывели самолет на полосу, подняли машину в воздух и увели на Кабул. Один из двигателей так и не вышел на режим из-за повреждений топливной системы, однако удалось кое-как набрать высоту, перевалить через горный хребет высотой за четыре километра и благополучно добраться до места. При осмотре самолета обнаружили свыше 350 пробоин в фюзеляже, рулях, элеронах и закрылках. Повреждены были задние подпольные баки в фюзеляже, бак-кессон правого крыла, тяги управления рулем направления, трубопроводы топливной, гидравлической и кислородной систем. Для ремонта самолет перегнали из Кабула на «свою» базу в Баграме, где совместными усилиями техсостава транспортной эскадрильи и соседей из истребительного полка привели в более-менее нормальное летное состояние, позволявшее машине перелететь в Союз для капитального ремонта. На будущее экипажам транспортников была дана рекомендация: «В целях снижения возможных потерь по аэродромам назначения для сокращения времени пребывания на аэродромах предусмотреть погрузку и выгрузку самолетов без выключения двигателей». Даже в сравнении с Хостом настоящим испытанием выглядели полеты в Фарах и Зарандж на восточном направлении, где местные «аэропорты» выглядели убого даже по афганским меркам. Специального оснащения, светового и радиотехнического, аэродромы вовсе не имели, проблемой была даже нормальная связь, а грунтовая полоса после нескольких посадок разбивалась до совершенно непотребного состояния. Все руководство полетами осуществлялось кем-нибудь из командиров кораблей с помощью солдата-связиста, загодя доставляемых туда на Ан-26 (они именовались «группой руководства полетами сокращенного состава»). Полеты в Зарандж, лежавший в солончаках на иранской границе, были эпизодическими, однако Фарах являлся узловым пунктом в населенной речной долине Фарахруд, где сходилось множество торговых и караванных путей, имел важное значение для контроля округи и всего направления. Людное, по афганским меркам, место требовало контроля и постоянной поддержки находившихся здесь подразделений советского 371-го мотострелкового полка и 21-й пехотной бригады афганцев, тем более, что через Фарах пролегала стратегическая автотрасса, опоясывавшая весь Афганистан. Новое происшествие не заставило себя ожидать. Всего через три месяца, 18 января 1984 года, вместе с разбившимся Ан-12 погиб экипаж Л. В. Верижникова. Смена дальневосточников из 930-го втап прибыла для работы в Афганистане в составе 200-й эскадрильи в июле 1983 года. Все проведенные здесь полгода летчикам пришлось работать буквально без передышки, и у командира с помощником значились по 370 боевых вылетов, притом что правый летчик А.В. Скрылев был вчерашним выпускником летного училища, которому едва исполнилось 23 года, и звание старшего лейтенанта он получил уже в Афганистане. Самолет выполнял рейс из Баграма в Мазари-Шариф, доставляя груз боеприпасов и прочих средств для афганской армии. Обломки Ан-12 были обнаружены в горах, в 40 км от места назначения. Причиной катастрофы официальным образом посчитали поражение огнем противника, сочтя, что на подлете самолет был сбит и погибли все находившиеся на борту - семеро членов экипажа и находившиеся в числе пассажиров советские специалисты. Впрочем, знающие летчики считали более вероятной ошибку в метеообеспечении - экипажу по трассе полета указали направление ветра обратным действительному, из-за чего те порядком уклонились от маршрута и, начав снижение после прохода Саланга, налетели на гору.  Ан-12 прибыл забрать тела погибших летчиков. По всей видимости, речь идет об экипаже Ми-8, сбитом накануне Нового года — штурмане А. Завалиеве и борттехнике Е. Смирнове. Баграм, декабрь 1983 г Не прошло и месяца, как в поломке серьезно пострадал Ан-12БП из состава 50-го осап. При посадке в Баграме экипаж подполковника К. Мостового «приложил» машину так, что сложилась правая стойка шасси. Самолет вынесло с полосы, поврежденными оказались фюзеляж, консоль и винты двух двигателей. По счастью, никто из 40 пассажиров, находившихся на борту, не пострадал, а самолет после ремонта с заменой стойки и двух силовых установок вернулся в строй. Высокая интенсивность боевой работы и большой налет авиатехники в сочетании с крайне неблагоприятными условиями эксплуатации делали особо ответственной работу технического состава. Внимания и усилий здесь требовалось гораздо больше, поскольку сам износ и неисправности в местной обстановке тоже носили специфический характер. Летние температуры и нагрев под солнечными лучами вели к пересыханию и растрескиванию резиновых мембран, прокладок и прочих деталей, преждевременно выходили из строя герметические уплотнения, шланги, портилась, окислялась, быстро выплавлялась и вымывалась смазка узлов и шарниров. Вездесущая и всюду проникающая пыль и песок особо вредили двигателям, у которых в результате пылевой эрозии быстро истачивались детали проточной части, особенно небольшие лопатки последних ступеней турбовинтовых двигателей. Топливо часто было изрядно грязным, поскольку доставляли его обычно в незакрытых емкостях (водители знали, что закупоренная цистерна взрывается при попадании, а при открытой крышке пары улетучиваются и дело может обойтись без взрыва от простой пробоины, которую не составит труда законопатить, для чего под рукой держали набор вытесанных из дерева чопов-затычек). Керосин на заправку шел порядочно замусоренным, с недопустимым дома содержанием песка и грязи, видимых даже на глаз. При проверке оказывалось, что на тонну керосина набиралось до килограмма и больше песка. В результате быстро засорялись топливные и масляные фильтры, забивавшиеся смолистой черной грязью, страдали воздушные фильтры и жиклеры топливной автоматики, что грозило ухудшением запуска и приемистости, «зависанием» оборотов и их рассогласованием по силовым установкам («вилкой» оборотов), забросами температуры газов за турбиной. Для борьбы с этими напастями требовалось гораздо чаще промывать фильтры на ультразвуковой установке, «выбивающей» даже мелкие засевшие частицы мусора, что предписывалось делать каждые 10-15 часов наработки (дома этим занимались разве что в ходе 100-часовых регламентных работ). В жару отмечалось быстрое коксование топлива и масел с осаждением вязких продуктов и шлаков на форсунках и фильтрах, пыль и песок проникали в масляные полости двигателя через уплотнения, вызывая быстрый износ контактных деталей и подшипниковых узлов, а закупорка масляных жиклеров могла привести к масляному голоданию подшипников. В других шарнирных узлах и парах попадание песка и пыли в смазку образовывало настоящую абразивную смесь, а разложение смазки с образованием органических кислот только способствовало коррозии. Попадая в узлы электрооборудования, пыль и песок ускоряли износ коллекторов генераторов и электродвигателей, быстро «летели» щетки, случались пробои, «гуляли» параметры электроснабжения. Такими же неприятностями сопровождалось скопление пыли в радиооборудовании, приводившее к перегреву и отказам генераторных систем. Большие суточные перепады температур, от дневной жары до прохлады ночью, сопровождались осаждением обильной росы, затекавшей во всевозможные зазоры и полости, вызывая повышенную коррозию даже в здешнем сухом климате. Этому способствовало также разрушение защитных покрытий с растрескиванием красочного слоя из-за тех же температурных скачков и абразивного ветрового влияния. Сама пыль, поднимаемая ветрами с солончаков, содержала агрессивные сульфаты и хлориды, в сочетании с росой дававшие крайне едкую «химию». При проникновении в топливную, масляную и гидравлическую систему эти компоненты способствовали разъеданию прецизионных узлов и развитию коррозионной усталости, причем отмечалось, что образовавшаяся среда приводит к коррозии практически всех авиационных металлов и сплавов, в том числе высокопрочных и легированных сталей, которые в нормальных условиях считаются нержавеющими. По гидросистемам быстро выходили из строя шланги, уплотнения штоков, начинались нарушения герметичности и течи, выходили из строя гидроаккумуляторы, где дело усугублялось еще и высокими рабочими давлениями. Даже выносливое шасси самолета при повышенных скоростях взлета и посадки подвергались чрезмерным нагрузкам в нерасчетных условиях, с нагружением ударного характера, бокового воздействия из-за ветрового сноса и энергичного торможения. Частое и интенсивное пользование тормозами, необходимое из-за тех же повышенных скоростей и ограниченных размеров многих посадочных площадок, приводило к участившимся случаям разрушения тормозных дисков, хотя и без того те быстро изнашивались, а охлаждение перегретых тормозов водой после посадки вызывало их растрескивание (пенять на техников тут не приходилось - в противном случае перегрев колес грозил взрывом пневматиков, и без того буквально горевших на посадках, свидетельством чему были горы изношенной резины у стоянок, почему среди завозимого имущества колеса числились среди самого необходимого).  Отправка на родину погибших летчиков но «черном тюльпане» СССР-11987. Запечатленный на снимке Ан-12 вскоре сам попадет под огонь душманского «Стингера» и вернется с горящим двигателем Все эти напасти требовали повышенного внимания и больших трудозатрат, многократно повышавших нагрузки на инженерно-технический состав. Обычным видом устранения неисправностей являлась замена агрегатов, процедура сама по себе трудоемкая, а при размерах Ан-12 непростая еще и из-за трудного доступа. Даже для замены изношенных колес, обычной на других машинах процедуры, весь самолет надо было вывесить на трех массивных подъемниках, а для работ по силовой установке требовалось использовать громоздкие высокие стремянки. Поскольку наставление по инженерно-авиационной службе в действовавшей редакции требовало, чтобы техника всегда находилась в исправном и боеготовом состоянии, без указаний, как этого добиться при дефиците времени и рабочих рук, трудности преодолевались обычным способом - усердной работой техников и механиков. Документами ИАС констатировалось: «С высоким напряжением личным составом ИАС решаются сложные и ответственные боевые задачи на обеспечение боевых действий сухопутных войск. Продолжительность рабочего времени инженерно-технического состава, как правило, составляет 12-15 часов в сутки, а иногда и больше». Если для летчиков нагрузку старались хоть как-то нормировать, то для «технарей» рабочее время привычно считалось безразмерным, а отпуска и отдых в профилактории и вовсе выглядели непозволительной роскошью (если кому-то эти детали могут показаться несущественными — «на войне, как на войне», - можно посоветовать примерить на себя каждодневную работу без выходных в таком режиме хотя бы в течение полугода). Нередко оказывалось, что прибывающий техсостав слабоват в практических навыках работы (кто же отдаст «дяде» хорошего специалиста), а то и вовсе незнаком с машиной, на которой придется работать. На этот счет отмечалось, что «60 - 70% состава ИАС прибывает на замену из частей, эксплуатирующих другие типы авиационной техники, и не знакомы с особенностями их эксплуатации в данном регионе». Что правда, то правда - дома в ВТА на Ан-12 к середине 80-х годов продолжали служить меньше трети авиаполков, прочие части успели перейти на более современную технику, для которой в училищах и готовили специалистов. Об устройстве Ан-12, иные из которых имели почтенный возраст и были постарше своего персонала, молодежь имела самые общие представления, не говоря уже о практическом опыте. Замена личного состава в Афганистан применительно к транспортникам шла через объединения ВТА, разбираться в заявках особенно не приходилось, и то и дело по ним отправлялись «технари» с Ан-22 и Ил-76 с наказом: «На месте разберетесь». Впрочем, такая же практика заполнения штатного расписания процветала и дома: выпускник технического училища, пять лет изучавший истребитель определенного типа, запросто мог попасть в вертолетную часть, без какой-либо переподготовки приступая к работе на новой технике. На транспортниках, правда, положение порядком упрощало наличие достаточно многочисленного экипажа, включая и борттехников, помогавших новичку освоиться и в самом что ни на есть рабочем порядке получить требуемые навыки — известно, что через руки ученье доходит лучше, чем через голову. Имели место проблемы и с летным составом. Документами штаба ВВС отмечалось, что и при направлении летчиков в Афганистан отбор ведется не столь уж требовательно и прибывающие по замене в состав ВВС 40-й армии зачастую обладают недостаточной подготовкой, не успели должным образом освоить технику пилотирования, имея всего 3-й класс, а то и вовсе получают направление в Афганистан практически сразу по окончании военных училищ, уже на месте вводясь в строй. Эти претензии подтверждались фактами аварийности и потерь - так, из числа погибших экипажей Ан-12 все помощники командиров были из молодежи, только-только начинавшей службу. Летный состав отнюдь не всегда направлялся в состав ВВС 40-й армии поэкипажно и комплектно, а техники требуемых специальностей и вовсе зачастую прибывали «поштучно» (если только речь не шла о замене целой эскадрильи). Командируемые в Афганистан обычно получали предписание о направлении «для выполнения специального задания» (в служебных документах демагогические обороты об «исполнении почетного интернационального долга» не приветствовались). Так, из состава читинского 36-го осап, находившегося вовсе не в структуре ВТА и работавшего в интересах командования Забайкальского округа, в Афганистане побывали 33 человека из числа летчиков, техников и офицеров группы управления, один из которых, бортмеханик прапорщик П. Бумажкин, погиб на борту сбитого Ан-26. Работы в экипаже транспортника хватало всем. Если учесть, что экипажу транспортного самолета приходилось заниматься еще и погрузкой и выгрузкой, швартуя тюки и ящики в грузовой кабине, то работать летчикам приходилось изрядно побольше, чем коллегам, и физически, и по времени. Загруженными больше других оказывались борттехники - старший бортовой техник самолета и его напарник, бортовой техник по авиадесантному оборудования, помимо этих забот, занимались еще и подготовкой самой машины вместе с наземным техническим экипажем. Занятие это на большом самолете было трудоемким и тяжелым, из-за чего борттехников среди летного экипажа всегда можно было отличить даже по одежде, несущей следы керосина, масла и потрепанной в тесноте отсеков.  Ан- 12БК совершает посадку в Кундузе Нагрузка на экипажи транспортников и напряженность их работы выглядели весьма внушительными даже на фоне деятельности летчиков «боевой авиации». По данным за 1985 год, средний налет на один Ан-12 в ВВС 40-й армии составлял порядка 280 часов и 260 вылетов, тогда как на выполнявшие сходные задачи Ан-26 приходилось в 2,5 раза меньше; в истребительно-бомбардировочной авиации средний налет на Су-17 и Су-25 равнялся примерно 200 часам и 230 вылетам, у истребителей МиГ-23 - 80 часов и 110 вылетов. Больший налет имели только вертолетчики, у которых на машину приходилось до 400 часов и свыше 360 вылетов за год (в среднем по всем типам). При этом одному из Ан-12, служивших в авиации 40-й армии, работы досталось куда больше других — самолет, отличавшийся редкой надежностью и постоянной исправностью, обладал высокой «производительностью», выполнив за год аж 745 вылетов с налетом 820 часов (не правда ли, такие цифры могут поколебать устоявшиеся представления о работе транспортной авиации как вроде бы вспомогательной и не очень-то существенной рядом с «настоящими» военными летчиками!). Впечатление производила и запись в документах о «личных достижениях» одного из летчиков за десять месяцев службы в 50-м осап: «...В составе экипажа самолета перевез свыше 7000 пассажиров и несколько сотен тонн груза». Инженерно-авиационное обеспечение эксплуатации техники первое время производилось на основании распоряжения ГИ ВВС от 31 марта 1980 года, сохранявшего основные положения Наставления по инженерно-авиационной службе (НИАС), предусмотренные для мирного времени, с некоторыми «послаблениями»: так, срок действия предварительной подготовки допускался до шести летных дней вместо трех дома, для сокращения времени подготовки разрешалось одновременное выполнение заправки и зарядки систем самолета с проверкой оборудования под током, дома не допускавшееся по безопасности, позволялось продление ресурса до 50 часов без очередных предусмотренных регламентных работ и выполнение очередных регламентов поэтапно с тем, чтобы машина быстро возвращалась в строй. На деле очевидно было, что полностью произвести все предусмотренные и расписанные в руководящих документах и инструкциях виды работ, требующие всего рабочего времени даже дома, в боевой обстановке просто нереально - большое количество вылетов, взлетов и посадок, наработка систем и оборудования заставляли экономить на обслуживании. Следует напомнить, что действующим наставлением предусматривалось выполнение наиболее объемных и трудоемких видов обслуживания в предварительную подготовку, занимавшую специально отведенный день накануне полетов и распространявшуюся на несколько летных смен. Предполетная подготовка, как явствует из названия, проводилась непосредственно перед вылетом и включала проверки готовности оборудования и систем к полетному заданию. В послеполетную подготовку (или подготовку к повторному вылету) машину заправляли и снаряжали всем необходимым, обеспечивая готовность к новому заданию, если же самолет привозил из полета какие-то неисправности более-менее сложного характера, как правило, их оставляли «на потом» и устраняли уже на следующий день. В Афганистане из-за значительного числа заданий и необходимости постоянного обеспечения куда большего количества вылетов трудозатраты на техническую эксплуатацию авиатехники возросли почти вдвое и, как отмечалось ГИ ВВС, это «привело к острому дефициту рабочего времени и инженерно-технического состава в составе ВВС 40-й армии». Приоритеты сместились, и основным видом обслуживания стала послеполетная подготовка, на которую возлагалась главная роль в обеспечении постоянной боеготовности самолета. Такие перемены представлялись вполне обоснованными: поддерживая готовность машины к выполнению задач, сразу после прилета самолет заправляли топливом и всем необходимым, тут же устраняя проявившиеся отказы, словом, - приводили самолет в полностью рабочее состояние. На транспортниках, не откладывая, попутно с послеполетным работами старались сразу же произвести погрузку, чтобы самолет стоял в полной готовности к следующему рейсу (учитывая, что прием нескольких тонн груза, его размещение и швартовка были занятием длительным и трудоемким, заниматься погрузкой перед вылетом означало полную неопределенность со стартовым временем). При обслуживании машины приходилось обходиться минимально необходимыми работами, обычно ограничиваясь внешним осмотром и проверяя работоспособность оборудования, привычно записывая результаты подготовки самолета «в полном объеме». Если на самолете не находилось повреждений, подтеканий топлива, масла и гидравлики и следов недопустимого износа, работала связь и основное оборудование, позволявшие выпустить его в полет, на прочие мелочи не обращали внимания, считая машину боеготовой. Хотя НИАС включал специальный раздел, регламентировавший подготовку техники в военное время, дать «добро» на предусмотренную им организацию работ долгое время руководство не решалось, хотя фактически действительность распорядилась сама и техникам приходилось обходиться своим умом и располагаемым временем, решая, что и как делать для обеспечения готовности машины - все же отношения и с летным экипажем, и с матчастью были самыми доверительными и оставить самолет с неисправностями считалось просто-напросто недопустимым отнюдь не по требованиям руководящих наставлений. Ввести предусмотренные на военное время нормативы не решались не столько из-за формального непризнания необъявленной афганской войны — слово «война» не приветствовалось ни в каких служебных документах и было настоящим табу в публикациях отечественной печати, заменяемым на многословно-обтекаемое «выполнение интернационального долга». Мотивы задержки с решением имели куда более реалистичные причины отнюдь не идеологического характера: поскольку условиями инженерно-авиационного обеспечения на военное время предусматривались существенные отступления от обычного режима работ, снятие многих ограничений и разрешенное сокращение объемов подготовок, имели место небезосновательные опасения, что личный состав после такой «демократизации» и снижения требовательности и вовсе расслабится, обслуживание будет выполняться кое-как, а качество подготовки упадет до небезопасного уровня, так что проще было не торопиться с нововведениями. Однако обстановка диктовала свое. Организационные изменения были явной необходимостью и получили утверждение распоряжением ГИ ВВС, отданным 26 декабря 1983 года, которым ряд предписанных работ заменялся упрощенными проверками, а опыт фактического ведения инженерно-авиационной службы требовалось обобщать и представлять в виде отчетов. В конце концов, были введены в действие требования обеспечения инженерно-авиационного обслуживания в период боевых действий, получившие силу указанием ГИ ВВС от 17 июня 1986 года. Этой директивой закреплялся более рациональный и эффективный порядок: в боевой обстановке отменялась привычная предварительная подготовка с выполнением большого объема работ, необходимая часть которых выполнялась теперь при подготовке к вылету, вводились технические расчеты из необходимых специалистов, комплексно готовившие технику к полету, а многие виды трудоемких работ, выполнявшиеся прежде после определенного налета или наработки агрегатов, заменялись целевыми и периодическими осмотрами, устанавливавшими работоспособность техники (другими словами, делались не предписанные «повременно», а реально необходимые работы). Если дома обычной практикой было приглашение заводских представителей для устранения неисправностей на гарантийной технике и их содействие при выполнении сложных ремонтов по заводским технологиям, то в боевой обстановке ожидание заводчан было непозволительной роскошью и подобные проблемы старались решать своими силами и разумением (на этот счет ходили сложенные одним из техников куплеты со словами: «...терзался, мучился, творил, я вырезал, паял и клеил»). При необходимости разрешалось выпускать в полет машину с неисправностями, если те выглядели безопасными и не препятствовали выполнению задания — «лишь бы винты крутились и колеса вращались». Такое выглядело совершенно непредставимо дома, где действующими наставлениями строго предписывалось «допускать к полетам технику только с выполнением всех предусмотренных видов подготовки и с надлежаще оформленной документацией». Летчики тоже с пониманием относились к надежной машине, благо Ан-12 в этом отношении заслуживал полного доверия: «Штурвала слушается, на себя - вверх, от себя - вниз, и ладно». Одновременно был начат переход на эксплуатацию авиатехники по техническому состоянию вместо ранее принятой по назначенным срокам, когда агрегаты подлежали непременной замене после выработки ими гарантийного ресурса с определенным числом часов наработки. Прежде предписывалась безоговорочная замена или сдача в ремонт отработавших узлов, поскольку дальнейшая работа считалась небезопасной, однако благодаря запасу надежности многие из деталей и агрегатов сохраняли работоспособность, позволяя дальнейшую эксплуатацию. Перевод на эксплуатацию и обслуживание по состоянию обеспечивал не только экономию материальных ресурсов, оставляя на борту исправно работающее оборудование, но и позволял существенно сократить трудоемкость и сберечь силы как в частях, так и в промышленности - ведь конструктивный агрегат или блок аппаратуры, очень недешевый, необходимо было заказать и изготовить, а его замена на борту требовала времени и труда, прибавляя забот техникам. Относительно имевших место неисправностей и выявляемых дефектов, без которых в эксплуатации не обходилось (абсолютной надежностью обладает разве что молоток, а для сложной техники стопроцентная безотказность даже теоретически недостижима), то представляемая официальными документами картина любопытным образом отличалась от положения с этим вопросом дома: согласно отчетам инженерного отдела ВВС 40-й армии, основной причиной проявлявшихся отказов и выявляемых дефектов оказывались конструктивно-производственные недостатки техники, составлявшие 80% общего числа неисправностей, тогда как ошибки легкого состава являлись основанием всего 4% поломок, а вина инженерно-технического состава составляла и вовсе малозначительные 3% выхода из строя матчасти (другими словами, техника все больше ломалась сама по себе, без вины работающих с ней). Очевидной причиной такого перераспределения ответственности определенно просматривалось нежелание уличать личный состав, и без того работающий сверх всяких норм и в самых непростых условиях, возлагая вину на безответное «железо». При более тщательном рассмотрении обнаруживалась более объективная картина с преобладающим влиянием того же «человеческого фактора» на причины поломок и отказов: так, по учету ГИ ВВС в авиации 40-й армии доля авиадвигателей, выведенных из строя и подлежавших досрочной замене по вине летных экипажей, инженерно-технического состава и частей обслуживания с удручающим постоянством составляла не менее трети (для сравнения -дома в частях ВТА на вину личного состава приходились 12-15% процентов «убитых» двигателей). Хотя специальным постановлением ЦК и позволялось признавать присутствие в Афганистане подразделений транспортной авиации (кто-то ведь должен был «перевозить грузы местному населению»), работа транспортников за все время лишь дважды нашла упоминание в тогдашней центральной печати. Правда, по вольности автора одной из статей, очевидно пропагандиста, не шибко разбиравшегося в теме, в рассказе о летчиках Ан-26 один из членов экипажа упорно именовался «воздушным стрелком», а другой - «стрелком-радистом», что, безусловно, несколько подрывало доверие к искренности повествования; идейно подкованный политический работник, по всей видимости, в жизни не имевший дела с техникой, не представлял себе, что на борту Ан-26 нет ни «стрелков» в экипаже, ни башен с пулеметами, с которыми те могли бы управляться. Впрочем, и многие другие автора публикаций о «героических буднях воинов-интернационалистов», метко прозванные «членами-корреспондентами», составляли свои пафосные творения, не выходя из кабульской гостиницы, а потому их труды пестрели аналогичными несуразностями. Организационные перемены, предпринятые в ВВС 40-й армии в канун 1984 года, подоспели как нельзя вовремя. На этот год планировался ряд крупных войсковых операций, включая и новую Панджшерскую, небывалую прежде по размаху и имевшую целью «нанесение формированиям Ахмад Шаха решительного поражения». Лидер местных отрядов оппозиции к этому времени вырос в крупную политическую фигуру с непререкаемым авторитетом, что для официального Кабула выглядело настоящим вызовом. На контакты с госвластью он по-прежнему не шел, будучи деятелем вполне самодостаточным и относясь к правительству с откровенным презрением, но в то же время заключил с командованием советских войск негласный «пакт о ненападении», обязавшись не допускать в зоне своего влияния нападений на гарнизоны, посты и транспорт не только подвластных ему сил, но и других формирований. Однако под нажимом Кабула и соображений «большой политики», требовавшей устранения столь одиозного противника, победе над которым придавался еще и пропагандистский эффект, руководство 40-й армии получило указание провести соответствующий комплекс военно-тактических действий (операцию) по группировке Ахмад Шаха. Но каким-то образом оказавшись осведомленным о целях и планах операции, Масуд загодя вывел из долины большую часть своих отрядов и даже население целых кишлаков, вывезенных автобусами и грузовиками в соседние районы. Этим и объяснялось быстрое и сравнительно легкое продвижение войск, не встречавших ожидаемого сопротивления. Генерал Б.В. Громов, прибывший в Афганистан уже во второй раз, теперь в составе опергруппы Минобороны, писал: «Через несколько дней после начала боевых действий в Панджшере мы обнаружили, что ущелье опустело». Так же быстро положение восстановилось и после отхода советских войск — «народная власть» откатилась из недружелюбных селений обратно в Кабул, и все вернулось на круги своя. Транспортная авиация в дни операции возила преимущественно авиационные боеприпасы и перебрасывала личный состав. Боеприпасов требовалось весьма много, поскольку без повсеместной поддержки с воздуха, по опыту, дело просто не шло. Помимо бомбардировок, активно велось минирование с воздуха дорог и горных троп, имевшее целью препятствовать передвижениям противника. В то время как «Красная Звезда» писала о «победном марше афганских войск», противник предпринимал ответные действия. Вернувшись в родные места Чарикарской «зеленки», уже 11 мая 1984 года «духи» организовали мощный минометный обстрел Баграмской базы. Словно демонстрируя свои не очень-то пострадавшие силы, моджахеды устроили артналет среди ночи, но огонь вели на удивление точно. Первая мина упала с недолетом, вторая - с перелетом, классической «вилкой», после чего прямые попадания накрыли дежурное звено МиГ-21 прямо в укрытии. Похоже было, что не обошлось без наводчика, корректировавшего огонь откуда-то с территории базы - говорили, что тот сидел прямо на крыше ангара афганского ремзавода, идеальной позиции на пятнадцатиметровой высоте. Разгоревшимся пожаром были уничтожены все четыре истребителя, из огня летели ракеты, раскаленные осколки сыпались на находившуюся рядом стоянку транспортников и лежавшие тут же бомбы (под операцию их завезли с запасом, и бомбы громоздились на земле прямо у самолетов). Подоспевшие летчики запускали двигатели и выруливали кто куда, подальше от пожарища. 2 июня 1984 года при очередном обстреле Баграма, мины ложились прямо у стоянки транспортной эскадрильи. Неприятностей добавлял сам характер здешнего грунта, твердого спекшегося суглинка, на котором разрывы толком не оставляли воронок, в которых обычно остается добрая половина осколков, и те веером летели во все стороны. Осколочными попаданиями был поврежден один Ан-12 и пара некстати оказавшихся рядом вертолетов. По счастью, на этот раз обошлось только пробоинами и машины после ремонта вернулись в строй. 1984 год был отмечен и другими крупными операциями: в декабре вновь штурмовали душманскую базу в горах Луркоха, проводили операции в районе Хоста, Герата и Кандагара. Всего же за один только летний период 1984 года была проведена 41 плановая и неплановая операция - почти вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года (22 операции). 1984 год принес также серьезный рост потерь авиации: число самолетов и вертолетов, которых лишились ВВС 40-й армии, по сравнению с предыдущим годом подскочило почти вдвое — с 9 самолетов и 28 вертолетов в 1983 году до 17 самолетов и 49 вертолетов в 1984 году. Соответственно объемам боевой работы рос и расход боеприпасов: количество израсходованных авиабомб поднялось более чем вдвое, с 35 тысяч до 71 тысячи штук, а ракет - и того больше, с 381 тысячи до 925 тысяч. В октябре 1984 с помощью Ан-12 была предпринята необычная транспортная операция. Накануне при аварийной посадке в Баграме был разбит штурмовик Су-25. Самолет получил серьезные повреждения, исключавшие его ремонт на месте или перелет на завод для восстановления — штурмовик невозможно было даже буксировать, стойки шасси при ударе пробили топливные баки и он едва держался «на ногах». Отправить в Союз его решили по воздуху, разобрав и загрузив на борт Ан-12. Тем не менее груз оказался, что называется, негабаритным и у грузоотсека не удавалось закрыть его створки. Потребовалось связаться с Главным штабом ВТА, получив оттуда «добро» на перелет с грузолюком «нараспашку». Штурмовик благополучно доставили на ремзавод в Чирчик, правда, обратно он уже не вернулся, закончив службу в качестве наглядного пособия в одном из военных училищ. Как отмечалось ранее, 1984 год принес серьезный рост потерь авиации: число самолетов и вертолетов, которых лишились ВВС 40-й армии, по сравнению с предыдущим годом подскочило почти вдвое. Однако все это были только «цветочки»... Помимо наращивания сил ПВО противника, все большего числа зенитных средств и умелого применения ДШК и ЗГУ для борьбы с воздушными целями, в душманских отрядах стало появляться совершенно новое и качественно превосходящее оружие - переносные зенитные комплексы (ПЗРК). Первые ПЗРК встречались эпизодически, попадая к моджахедам всякими извилистыми путями, прежде всего, из арабских и китайских источников (на свою голову, отечественных «Стрел» многочисленным союзникам и друзьям раздать успели слишком много). Разведка докладывала и о наличии у противника ПЗРК западных образцов, хотя на официальном уровне до осени 1986 года таких поставок не было (известно, то что нельзя купить за деньги, можно добыть за большие деньги). Сообщения о применении ПЗРК появлялись чуть ли не с первых месяцев войны, хотя с большой долей вероятности следует признать, что за них (у страха глаза велики) могла приниматься стрельба из гранатометов - излюбленного душманского оружия. С появлением осколочных гранат РПГ стали не только противотанковым оружием. Огонь из РПГ, прозванных «артиллерией партизан», мог оказаться действенным средством против низколетящих воздушных целей, позволяя поражать их даже без прямого попадания, воздушным подрывом гранаты на дистанции самоликвидации в 700-800 м, дающим множество осколков и характерную вспышку разрыва со следом, очень похожим на пуск ПЗРК. В одном таком случае в сентябре 1985 года в 50-м осап даже специалисты-оружейники не могли понять, чем вызвано поражение машины - на кое-как дотянувшем вертолете Ми-24 вся передняя часть пестрела массой дырок, броня бортов была покрыта вмятинами и словно прожженными крупными отверстиями, а тело погибшего летчика-оператора буквально изрешечено. В силу этого установить характер применяемых реальных средств поражения не всегда представлялось возможным, однако официальным образом использование противником ПЗРК стало отмечаться с 1984 года, когда среди трофеев захвачены были первые натурные образцы ПЗРК и зафиксированы 50 пусков ракет, поразивших шесть целей (три самолета и три вертолета); по другим данным штаба 40-й армии, в 1984 году отмечены были 62 случая использования ПЗРК. Число их быстро росло, уже в следующем году достигнув 141 случая с результатом в семь пораженных машин. В частности, о применении ПЗРК летчики то и дело докладывали в ходе Кунарской операции, проводившейся в мае-июне 1985 года в восточных районах страны. В операции задействовали значительные силы. Для их обеспечения транспортная авиация перебросила в Джелалабад, центр Кунарской провинции, несколько тысяч человек личного состава и большое количество боеприпасов и материально-технических средств. Противник, со своей стороны, подтянул к Кунару отряды численностью до пяти тысяч бойцов и не только оказывал сопротивление, но и кое-где переходил в контратаки. В приграничной полосе у Асмара было сосредоточено большое количество зенитных средств, неоднократно здесь пускались в ход и зенитные ракеты.  Стрелок зенитной горной установки ЗГУ-1 за работой Результативность применения ПЗРК поначалу выглядела весьма невысокой, давая менее 5% удачных пусков. Это могло бы показаться странным - как-никак, самонаводящееся устройство заведомо должно было обладать хорошей эффективностью, и при полигонных стрельбах «Стрелы-2» число попаданий составляло не менее 22-30%. Причинами, по всей видимости, являлась слабая освоенность и плохая подготовка душманских стрелков - все-таки ПЗРК требовал хотя бы мало-мальских технических знаний - и, опять же, крайне ограниченное, несмотря на доклады о «замеченных пусках», реальное число имевшихся ПЗРК (в следующем, 1986 году, пусков насчитали аж 847, сбивших 26 самолетов и вертолетов с результативностью всего 3%). Подтверждением заведомого преувеличения в оценке численности ПЗРК выглядело также то, что в числе трофеев в это время они встречались крайне редко, исчисляясь буквально единичными экземплярами даже при захвате крупных складов и операций по прочесыванию целых районов. Их вообще мало кто видел «живьем», тогда как ДШК, минометы, пусковые реактивных снарядов и те же РПГ среди трофеев были обычным делом. К примеру, в ходе одной только Кунарской операции были захвачены две сотни ДШК и ЗГУ, но ни одного ПЗРК. Специально организованной для борьбы с душманскими зенитчиками разведывательно-ударной группой в составе пары Ми-8МТ и звена боевых вертолетов Ми-24 в августе 1985 года были обнаружены 14 ДШК, 5 ЗГУ и станковый пулемет, из них 5 ДШК и 2 ЗГУ были уничтожены, а 4 ДШК, 3 ЗГУ и пулемет захвачены и доставлены на базу, однако никаких следов ПЗРК во всем районе экипажи ни выявили (а может, и к лучшему...). За весь зимний период 1984-1985 годов в ходе проводившихся частями 40-й армии операций и засадных действий - а за три месяца осуществлено было ни много, ни мало 32 операции разного масштаба и выставлено почти полторы тысячи засад - среди трофеев числились 119 РПГ, 79 ДШК и ЗГУ и только семь единиц ПЗРК. Всего за 1985 год воздушной разведкой ВВС 40-й армии были вскрыты 462 объекта ПВО всех типов (число необнаруженных, понятным образом, точно оценить не удалось и их наличие проявляло себя самым неприятным образом). Противник все чаще старался атаковать самолеты на взлете и посадке, подбираясь поближе к аэродромам, когда малая высота, ограниченная скорость самолета и скованность в маневре делали стрельбу по воздушной цели наиболее результативной. По мере распространения ПЗРК до 50% потерь авиации стали происходить как раз в охраняемой зоне аэродромов, благо компактность ПЗРК упрощала устройство засад и способствовала скрытности действий зенитчиков. Устройство, весившее каких-то девять килограммов, не зря именовалось «переносным», притащить его к месту засады и укрыться практически не составляло труда, в отличие от громоздкого ДШК со станком весом за полтораста килограммов. Именно таким случаем явилось трагическое происшествие с Ил-76 майора Ю.Ф. Бондаренко, 28 октября 1984 года выполнявшим рейс из Союза. Самолет был сбит прямо над Кабулом ракетой, пущенной из пригородных дувалов. На борту погиб весь экипаж и несколько человек, сопровождавших груз. На подходе был следующий транспортник с личным составом и окажись жертвой он - потери были бы неизмеримо большими... Двумя неделями раньше едва не был потерян Ан-12 из состава 200-й эскадрильи, и только отвага и умелые действия экипажа позволили спасти самолет. 15 октября 1984 года прибывший в Хост самолет капитана А. Царалова оказался под минометным обстрелом. Самолет доставил груз одеял для местного населения и пару емкостей с бензином для автотранспорта. Одну из них как раз выгружали, когда вокруг начали рваться мины. Осколки изрешетили самолет (позже в нем насчитали более 150 пробоин), перебитыми оказались тяги управления от штурвала правого летчика, задело и остававшуюся на борту цистерну, из которой по грузовой кабине начал растекаться бензин. Осколочные ранения получили пятеро из восьми летчиков, особенно тяжелыми оказались раны помощника командира лейтенанта Логинова. Командир корабля был серьезно ранен в руку, радист и вовсе не мог самостоятельно передвигаться, однако экипаж решил не оставаться под обстрелом и предпринял попытку уйти из-под огня. Запуская двигатели на ходу, пошли на взлет прямо с рулежной дорожки, причем последний двигатель вышел на режим чуть ли не при отрыве от земли. Самолет удалось довести до своего аэродрома, но ранения лейтенанта Логинова оказались смертельными и летчик умер на борту своей машины. Счет потерь следующего года также открыл транспортник: 22 января 1985 года на взлете из Баграма был сбит Ан-26, пораженный пущенной из окрестной «зеленки» ракетой. Экипаж старшего лейтенанта Е. Голубева из 50-го полка и два пассажира погибли. Грузные и неторопливые транспортники стали привлекательными мишенями для вражеских стрелков, задачу которым упрощала хорошо заметная машина, неторопливо набиравшая высоту и медлительно плывшая в небе, давая тем возможность изготовиться и прицельно выпустить ракету. Следующие потери пошли одна за другой: 11 марта 1985 года у Баграма ракетой был сбит Ан-30 капитана Горбачевского из 1 -й эскадрильи 50-го осап, а ровно четыре месяца спустя, 11 июля, ракета поразила Ан-12 майора М.Д. Шаджаликова из 1-й эскадрильи ташкентского 111-го осап. По какой-то прихоти судьбы оба эти случая пришлись не только на одно и то же 11-е число, но и на один роковой день недели - четверг. 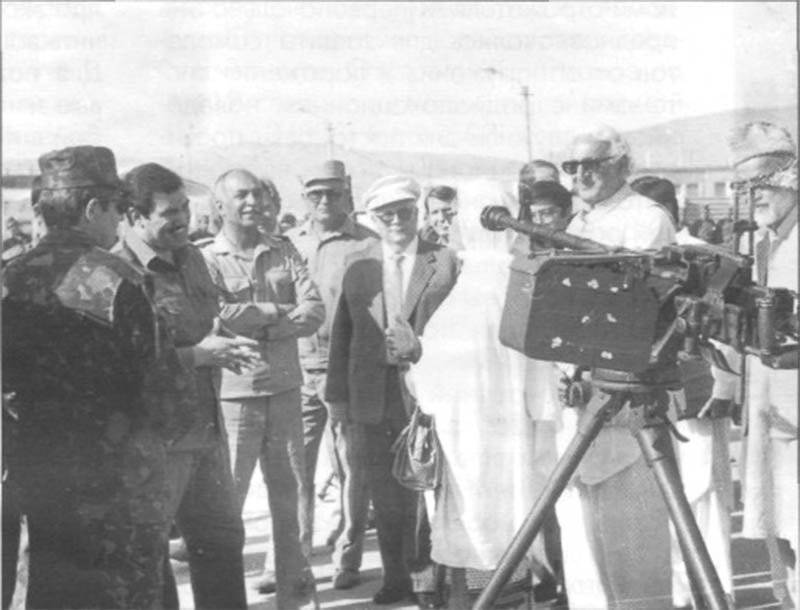 Афганские правительственные чины осматривают трофейный зенитный ДШК. Крупнокалиберный пулемет был крайне популярен и активно использовался всеми враждующими в Афганистане сторонами 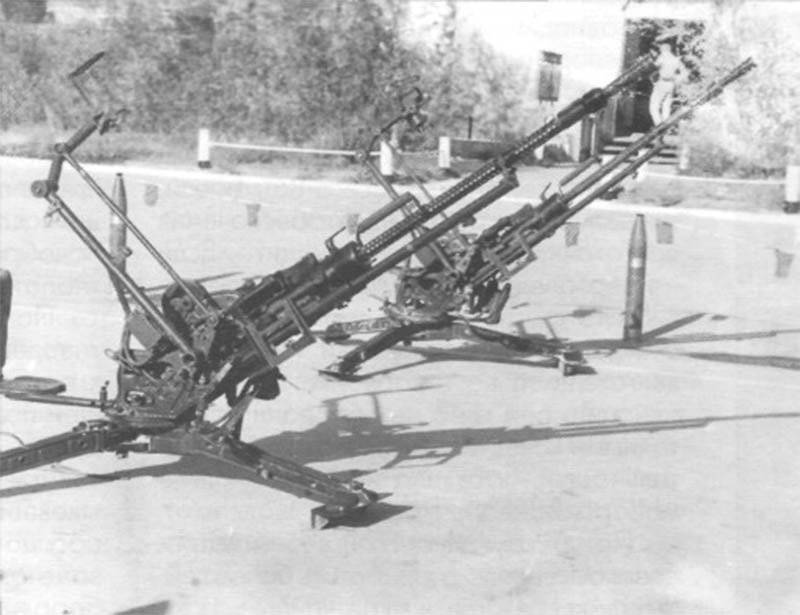 Захваченные у душманов зенитные горные установки ЗГУ-1 Ташкентский полк постоянно работал в интересах 40-й армии и афганских союзников, и в этот раз экипаж командира отряда Шаджалилова выполнял рейс в Афганистан из Союза (к слову, здесь же служили и другие члены семьи Шаджалиловых, чей род был прочно связан с авиацией — вместе с Мухамадали Шаджалиловым на службе в ВВС числились еще четыре его брата). Штурман и другие члены экипажа летали сюда уже не первый год, однако сам командир успел выполнить «за речку» всего несколько полетов. В этом рейсе самолет должен был доставить почту, связную аппаратуру и сопровождавших ее радистов. Маршрут с вылетом из Ташкента проходил с посадками в Кандагаре и Шинданде, после чего в тот же день предполагалось вернуться домой. Полет и посадка в Кандагаре прошли благополучно, далее следовало выполнить перелет в Шинданд. Весь полет туда занимал, от силы, минут 40 и, казалось, не сулил ничего необычного. Командир не стал терять время на набор высоты в охраняемой зоне и, не выполняя лишних маневров, сразу после взлета взял курс на Шинданд. При проходе самолета над городом из предместий был произведен пуск, разрыв поразил один из двигателей и начался пожар. Летчики попытались вернуться на аэродром, но последовавший взрыв крыльевых баков не оставил никаких надежд. Самолет упал в 22 км от аэродрома, все находившиеся на борту погибли. При последующем разборе происшествия был сделан назидательный вывод: «Расслабляться на войне - опасно для жизни». У самого командира по халатности кого-то из штабных в извещении о гибели оказалось перепутанным место катастрофы с пунктом назначения и в документах осталось невразумительное «погиб при доставке спецподразделения в район, расположенный в 22 км от аэропорта Кандагар». На самом деле самолет упал в кишлачной зоне у селения Мурган, имевшей репутацию «душманского муравейника», где ни о какой посадке не могло быть и речи. Хотя в полку уже были самолеты, оснащенные кассетами тепловых ловушек, самолет Шаджалилова их не имел. Большинство транспортных машин к этому времени успели доработать с установкой этих систем защиты. Тяжелым «Антеям» с 1985 года полеты в Афганистан и вовсе запретили, имея все основания считать, что столь заметного гиганта не сегодня-завтра подловят-таки душманские зенитчики. Запрет вовсе не выглядел перестраховкой: эксперименты показали, что мощные двигатели Ан-22 обладают куда большей тепловой эмиссией, нежели у других турбовинтовых машин, делая его крайне привлекательной целью для ПЗРК. Ан-12 и Ан-26 в этом отношении «светились» куда слабее, излучая меньше тепла, температура газов за турбиной двигателей даже на взлетном режиме не превышала 500°С, будучи в два с лишним раза ниже, чем у турбореактивной техники и в ИК-спектре они были менее заметны для ракет. К тому же винты турбовинтовых установок «размывали» горячие газы потоком окружающего холодного воздуха, способствуя охлаждению теплового шлейфа за самолетом.  Показательный пуск ПЗРК на аэродроме Кандагар. Ракета ушла на тепловые ловушки, доказавшие свою действенность Обратившись к разработчикам ИК-систем самонаведения, выяснили, что вероятность захвата цели зависит преимущественно от ее тепловой контрастности (превышения температуры излучающего источника над окружающей средой) и силы излучения, измеряемой в киловаттах на телесный угол, а также его спектрального диапазона. Наиболее эффективной и быстро реализуемой мерой защиты являлся отстрел с летательного аппарата ложных источников ИК-излучения, более мощных по сравнению с целью, на которые перенацеливались бы тепловые ракеты. На снабжении ВВС давно уже находились такие средства, именовавшиеся патронами-отражателями (первоначально они предназначались для защиты самолетов от обнаружения и поражения системами с радиолокационным наведением и служили для постановки противорадиолокационных помех выбросом металлизированных диполей-отражателей радиолокационных сигналов). После незначительной доработки содержимого патроны оказались вполне пригодными и для постановки тепловых помех. Инфракрасный помеховый патрон типа ППИ-26 представлял собой бумажную или алюминиевую гильзу охотничьего четвертого калибра (диаметр 26 мм) со снаряжением из термитной смеси, выстреливаемой зарядом обычного дымного ружейного пороха. После выстрела содержимое разгоралось, создавая в течение 5-8 сек факел с высокой температурой и отвлекая на себя ракеты. Кассетами с ППИ-26 оборудовались многие самолеты фронтовой авиации и вертолеты, несли их и транспортные Ил-76, где автомат отстрела с помеховыми патронами находился в гондоле шасси. Однако маломощные патрончики с небольшим зарядом, содержавшим всего 86 г смеси, оказались слабоваты для обеспечения достаточно эффективной защиты. Если на вертолетах они с задачей справлялись, то для прикрытия транспортников с куда более мощными и «горячими» двигателями, не говоря уже о боевой авиации, они явно не обладали достаточными качествами, что со всей убедительностью показала история с Ил-76 майора Бондаренко. По урокам афганской войны потребовалось срочно разработать более действенное средство, и в кратчайшие сроки был создан новый патрон ППИ-50 калибра 50 мм. Новый патрон принципиально мало отличался от предшественника, однако нес на порядок более мощный термитный заряд весом 850 г. Под усиленный пороховой заряд с капсюлем-электровоспламенителем потребовалась прочная стальная гильза, капсула с термитным содержимым выбрасывалась дальше от самолета. Время горения не изменилось, составляя 5-9 сек, но сила ИК-излучения при температуре под 2000° возросла вчетверо. Для размещения ловушек и организации отстрела для Ан-12 были созданы кассетные держатели КДС-155, в гнездах которых размещалось по 15 патронов. Кассеты устанавливались по четыре в обтекателях с каждого борта, размещенных достаточно удобно на небольшой высоте, что позволяло снаряжать их безо всяких стремянок и подставок. Вместимость кассет давала возможность управляться с ними вручную — полностью подготовленная балка весила килограммов под 20, каждая такая кассета снаряжалась патронами отдельно и устанавливалась в держатель. Общее количество патронов на Ан-12 составляло 120 штук, что позволяло, при экономном расходовании, обеспечить защиту при рейсе туда и обратно. Для подстраховки наиболее запасливые экипажи старались прихватить с собой в полет ящик-другой ловушек, подзаряжая кассеты до полного комплекта перед возвращением. Помимо кассет, самолет оборудовался соответствующей электроарматурой управления с пультом у рабочего места радиста, с помощью которого задавалось число выстреливаемых патронов в серии и частота серий - в зависимости от обстановки, по 1, 2 или 4 патрона с интервалами между залпами в 2, 4 или 7 сек. Кроме устройства КДС-155, для Ан-12 был разработан также вариант установки унифицированного типа УВ-26, в которой блоки ловушек монтировались по бортам фюзеляжа под центропланом в виде объемистых «щек». Но к «афганским» доработкам это устройство, по всей видимости, отношения не имело, оставшись в единичных экземплярах. Обладая единственным достоинством в виде большого запаса ловушек, система была весьма неудобна в работе - кассеты находились на трехметровой высоте над выступающими гондолами шасси, в самом неподходящем для их снаряжения месте, куда подобраться даже со стремянки было хлопотно. Помимо технических средств противодействия, транспортники перешли к организации полетов, обеспечивавшей повышение безопасности. С этой целью были освоены «укороченные схемы» взлета и посадочного захода, имевшие целью совершение взлетно-посадочных маневров в охраняемой зоне аэродрома, со снижением и набором безопасной высоты в ее пределах. В учет при этом бралось то, что ДШК и ЗГУ обладали досягаемостью по высоте до 2000 м, а ПЗРК типа «Стрела» и «Ред Ай» — до 2800 м, к которым прибавлялся необходимый запас высоты по безопасности, где огонь противника уже не представлял бы угрозы. Поскольку размеры безопасной зоны ограничивались ближними окрестностями аэродрома - периметром, прикрываемым батальонами охраны, минными заграждениями и патрулировавшими вертолетами, в его пределы и следовало стараться вписать траекторию взлета и посадки до требуемой высоты. Незавидной была судьба большинства селений, лежавших вблизи аэродромов - скрывавшиеся в их дувалах душманы не упускали возможности обстрелять стоянки и самолеты, после чего следовал неизбежный ответный артиллерийский удар или бомбардировка. У джелалабадского аэродрома плохой славой пользовался кишлак Ада, откуда по аэродрому то и дело постреливали. Авиаторы не оставались в долгу, расстреливая по селению остававшиеся после очередного вылета боеприпасы, а то и специально приберегая для этой цели бомбу. После очередной вылазки противника подключался «Град», и уже на втором году войны деревня перестала существовать. Такая же участь ожидала многие другие селения, оказавшиеся в охраняемых (и хорошо накрываемых огнем) зонах - на их месте вскоре оставались только груды пыльных развалин... Техника взлета по укороченной схеме для Ан-12 выглядела следующим образом: старт следовало начинать от самого начала ВПП, сразу после отрыва от земли и уборки шасси на высоте 10 м начиналось выполнение первого разворота на 180° с постепенным набором высоты на допустимой по углу тангажа и позволявшейся при выпущенных закрылках скорости. Для разгона и более интенсивного набора высоты после разворота убирались закрылки, а сам выход на безопасную высоту осуществлялся на взлетном режиме работы двигателей, допускавшемся в течение 10 минут (дольше при здешней жаре режим держать было опасно, чтобы не сжечь двигатель). Набор высоты производился по восходящей спирали, с выдерживанием максимально допустимого крена до 30°, либо предельно сжатой «коробочкой» — двумя разворотами на 180° над торцами ВПП. При вылете по спирали количество витков определялось загрузкой самолета и максимально допустимой вертикальной скоростью набора, обычно с выполнением 4-5 кругов. Далее на отходе набор высоты выполнялся на номинале двигателей по обычной схеме. Аналогичным образом осуществлялся и заход на посадку - с большим числом разворотов и высокой скоростью снижения на предельно допустимых скоростях и с минимальными радиусами витков крутой нисходящей спирали. Поскольку по прочности механизации крыла начинать выпуск закрылков разрешалось только при скорости не выше 370 км/ч, снижение производилось с убранной механизацией, а выпуск их в посадочное положение на угол 25° (вместо обычных 35°), предписывалось выполнять уже при прохождении ближнего привода, на границе охраняемой зоны, высота над которым должна была составлять 3100 м, оставаясь «чуть-чуть выше» досягаемости душманских зенитных средств (при нормальной схеме захода высота на глиссаде над маяком ближнего привода должна была составлять около 60 м). Выход из спирали требовалось производить с занятием посадочного курса в створе полосы, оказываясь на удалении 1,5-2 км от торца ВПП и на высоте 150 м. Поскольку инструкцией не исключалось «проникновение групп мятежников с ПЗРК и ДШК в охраняемую зону и обстрел ими самолетов», предписывалось в процессе выполнения захода на посадку заблаговременно задействовать средства защиты. Отстрел ИК-патронов на Ан-12 следовало начинать с истинной высоты 2400 м и до 1500 м сериями по одному патрону с интервалом 7 сек. По мере дальнейшего снижения серии учащались с уменьшением интервалов до 2 сек. Если же наблюдался пуск ракет или экипаж получал сообщение об этом с земли или сопровождающих вертолетов, включался залповый отстрел ловушек с двухсекундными интервалами, и те сыпались настоящим огненным градом. При этом следовало учитывать, что в ночное время отстрел ловушек выдает самолет, указывая его положение — если при полной светомаскировке на борту и отключении всей светотехники и даже освещения кабины Ан-12 в ночном небе становился заметным только с расстояния около километра, то шлейф ловушек виден был километров за 15-20, привлекая внимание противника к подлетающему самолету и давая тем возможность подготовиться. Постепенно накопился кое-какой опыт противодействия ПЗРК, позволивший определить рекомендации по возможно более эффективному использованию имевшихся средств. Применение ПЗРК хуже всего обнаруживалось с борта самолета при пусках из передней полусферы, что было вполне объяснимо - никто из летчиков при посадке не отвлекается на осмотр окрестностей и занят своим делом; зато при обстреле сзади время реакции экипажа было минимальным, порядка 2-3 секунд — все-таки здесь за обстановкой безотрывно следил кормовой стрелок, которому наблюдение за местностью вменялось в обязанность. При обнаружении пуска ракеты стрелок тут же подавал команду на применение ловушек, а при возможности должен был постараться подавить зенитную позицию огнем своих пушек. Стрельба по наземным целям предусматривалась курсом боевой подготовки и отрабатывалась дома, в удовольствии пострелять себе не отказывали, а экипажи на этот счет резонно рассуждали, что «от лишней очереди хуже не будет», и даже для острастки эта стрельба полезна. Время от времени появлялись рассказы о том или ином удачливом стрелке, однако каких-либо объективных подтверждений их успехов так и не находилось.  Вид на аэродром Баграма со взлетающего самолета. Позади тянутся дымные хвосты от догорающих ловушек, разбросанных спиральным следом «крутого градиента» за набирающим высоту самолетом Применение ловушек рекомендовалось сочетать с противоракетным маневрированием (хотя для тяжелого транспортника такие советы и выглядели благими пожеланиями). Так, при замеченном пуске вместе с началом отстрела ловушек можно было попытаться уйти от ракеты крутым снижением или отворотом на угол 30-40°, убирая обороты двигателей со стороны пущенной ракеты, чем достигалось уменьшение их тепловой контрастности, а отвлекающие ИК-патроны срабатывали с наибольшей эффективностью. Действенность ловушек не раз подтверждалась на практике. 11 января 1985 года при взлете с аэродрома Баграм самолет Ан-12БК капитана Орлова на высоте 2000 м был обстрелян ПЗРК. Экипаж вовремя включил отстрел, ракета ушла на факел горящего патрона и на глазах летчиков взорвалась в 150 м от самолета, не причинив ему никаких повреждений. 16 июля 1985 года взлетевший из Баграма Ан-12БК с экипажем майора Громака был обстрелян над входом в Панджшерское ущелье. При выходе на высоту 2500 м радист заметил один за другим два пуска. Судя по секундному интервалу, стрелок был не один, а огонь велся сразу с двух позиций. Первая ракета, не захватив цель, ушла с промахом далеко в сторону. Вторая ракета с хорошо видимым дымовым шлейфом направлялась точно на самолет, но на подлете угодила прямо в горящую ловушку и взорвалась. Что до статистики по применению ПЗРК, то в большинстве случаев их использование учитывали кто во что горазд. При всей опасности недооценки противника, ракеты эти мерещились едва ли не в каждом душманском отряде, тогда как разведка резонно указывала, что на обладание таким престижным и весьма недешевым оружием рассчитывать мог далеко не всякий командир моджахедов и доставались они, при ограниченных количествах, лишь имевшим должный авторитет у заграничных поставщиков и, конечно, средства на укрепление отношений - без денег на Востоке мало что делается, свидетельством чему были то и дело захватываемые в караванах крупные денежные суммы и тюки с наркотиками — ценимым по всему Востоку афганским гашишем и опием, надежной движущей силой «душманской экономики». Ан- 12БК с установкой блоков ловушек УБ-26 на фюзеляже  Устройство несло 768 инфракрасных патронов типа ППИ-26 При отсутствии объективных подтверждений, в штабе 40-й армии за период с начала 1984 по апрель 1987 года насчитали аж 1186 случаев применения ПЗРК. Инженерный отдел ВВС представлял цифры куда меньше - по его данным, за все время 1984 - 1987 годов зафиксирован был только 691 случай обстрела самолетов и вертолетов ракетами (т.е. почти вдвое меньше), и на их счет было отнесено 65 пораженных единиц авиатехники. В одном издании цифры и вовсе трансформировались в «600 пусков зенитных ракет, зарегистрированных только за первое полугодие 1986 года», что выглядело совсем уж явным преувеличением (уважаемые авторы, вероятно, перепутали итоговые данные и сообщения в начале того же года о готовящихся поставках в Афганистан 600 единиц американских ПЗРК, запланированных и осуществлявшихся затем в течение нескольких лет). Опасность встречи с ПЗРК являлась особенно высокой при полетах в приграничные районы — места вокруг Хоста и Джелалабада были густо насыщены душманскими отрядами, для которых здешние горы и «зеленка» были настоящим домом. С базами в соседнем Пакистане сообщение было практически бесперебойным и снабжение моджахедов новейшим оружием пресечь попросту не представлялось возможным - граница на всем протяжении оставалась открытой и достаточно было дневного перехода, чтобы душманские стрелки появились у джелалабадского или хостинского аэродрома и тут же после обстрела ушли назад. Для снятия напряженности в округе Хост весной 1986 года была предпринята операция по разгрому крупнейшей здесь перевалочной базы Джавара. Первоначально ее предполагалось осуществить силами афганских войск, собрав там четыре пехотных дивизии, две из которых носили почетный титул «героические». Однако дело у тех не пошло и после месячного топтания на месте пришлось задействовать советские части. Для этого на аэродром Хоста с 5 по 9 апреля 1986 года транспортными самолетами Ан-12 и Ан-26 были высажены четыре советских батальона. Одновременно по воздуху осуществлялся подвоз боеприпасов и восстановление без толку израсходованных «союзниками» средств (все запасы артиллерийских снарядов афганцы с их неистребимой любовью выступать с показным эффектом, громом и пальбой полностью расстреляли в первую же неделю операции). База была взята к 19 апреля, однако авиаторам этот успех стоил потери двух штурмовиков -командир полка А. Руцкой был сбит прямо над Джаварой, а подбитый самолет замкомэска К. Осипова дотянул до Хоста и там сел на вынужденную, потеряв шасси и плоскость. Потери в операции были ощутимыми - «Черному тюльпану» приходилось работать каждый день. Среди прочих трофеев на складах Джавары были взяты 60 ДШК и ЗГУ, а также 45 ПЗРК, включая два британских «Блоупайпа», какими-то неведомыми путями попавших в Афганистан (английские власти, имевшие свой давний и печальный опыт вмешательства в афганские дела, на официальном уровне поддержку афганского сопротивления не приветствовали). К тому же британский ПЗРК представлял собой весьма громоздкое сооружение весом 20 кг с ракетой радиокомандного наведения, нуждавшейся в непрерывном сопровождении цели, что требовало хорошо выученного расчета и определенных навыков в стрельбе. Прочие системы в обращении были попроще, особенно пресловутый «Стингер», что в немалой мере способствовало его популярности и эффективности в здешних условиях. При отводе войск в гарнизоны по окончании операции появились разведданные, что противник готовит свой ответ, планируя атаковать части, уходящие из Хоста по единственному здесь пути, и намереваясь непрерывными обстрелами устроить тем настоящую «дорогу в ад». Избегая ненужных потерь, командовавший операцией генерал армии В. Варенников отдал приказ о вывозе личного состава по воздуху, для чего вновь были привлечены самолеты советской и афганской транспортной авиации. Ими же вывозились и трофеи - мины, средства связи, вооружения и те же ПЗРК, часть которых предназначалась для военных училищ и заинтересованных организаций с целью изучения устройства и выработки мер противодействия. Мероприятия эти были тем более необходимы, что в марте 1986 года стало известно о санкции американских властей на прямые поставки афганской оппозиции крупной партии ПЗРК «Стингер». Речь шла о поставке 600 (по другим источникам 650) комплектов, а также помощи в обучении стрелков и организации их действий, налаживаемых в учебных центрах в Пакистане. В скором будущем американцам придется пожалеть об этом решении - предназначенные для «борцов за свободу» ракеты станут оружием исламских террористов, угрожая уже самим хозяевам. Однако тогда становившиеся массовым оружием ПЗРК превращались в немалую проблему. «Стингер» действительно грозил серьезно осложнить действия авиации: высокочувствительная головка самонаведения с частотной модуляцией излучения обладала селективным действием и устойчивостью к естественным и организованным помехам, умея «распознавать» тепло самолетного двигателя от тепловых ловушек и солнца, на которые «клевали» прежние ракеты. «Стингер» ориентировался на длинноволновую часть спектра ИК-излучения, свойственную авиационным двигателям, что делало ловушки менее эффективным средством защиты. К тому же «Стингер» имел досягаемость по высоте в 3500 м и имел лучшую энергетику, обладая более высокой скоростью, что снижало действенность противоракетного маневра. Его боевая часть при весе в 3 кг (у «Стрелы-2» - 1,3 кг) обладала куда более мощным осколочным и фугасным действием, усиливавшимся еще и применением неконтактного взрывателя, не требовавшего прямого попадания и срабатывавшего даже при пролете рядом с целью. Первыми свидетельствами появления новых ПЗРК стали отмеченные случаи обстрела самолетов на высотах, прежде считавшихся безопасными (при досягаемости «Стрелы-2» в 1500 м и «Ред Ай» - до 2500 м, применение ловушек на высотах более 2500 м уже считалось ненужным). По всей видимости, именно «Стингер» стал причиной гибели Ан-12 капитана А.Б. Хомутовского, сбитого 29 ноября 1986 года. Экипаж из состава кировабадского 708-го втап не первый раз работал в Афганистане, сам командир двумя годами раньше уже находился здесь в составе 200-й эскадрильи, а в этот «заезд» был направлен в 50-й осап. Летчики отработали уже без малого год и им со дня на день должна была прийти замена. Этот рейс должен был стать одним из «крайних», но стал последним....  Последствия попадания «Стингера»: осколочные повреждения и начавшийся пожар вывели из строя двигатель, обгорело крыло и часть закрылка. Кабул, декабрь 1986 г Полет выполнялся из Кабула в Джелалабад, на борту находился груз боеприпасов - авиационных реактивных снарядов С-24, почти полтонны взрывчатки и 23 пассажира. Среди них была группа бойцов спецназа, летевших к месту службы, остальные были работниками военторга и вольнонаемными гражданскими служащими. Вообще-то, соседство пассажиров и боеприпасов на борту было нарушением инструкций — людей запрещалось перевозить при наличии на борту боеприпасов, взрывчатых веществ и даже огнеопасного груза ГСМ. При транспортируемых боеприпасах мог находиться только сопровождающий, но на такие вольности обычно закрывали глаза - «на войне, как на войне», и неизвестно еще, когда можно будет улететь со следующим рейсом. Экипаж был опытным, подготовленным и, казалось, никаких предосудительных ошибок не совершал. Тем более вызывающим выглядело случившееся: маршрут был хорошо известен, весь рейс должен был занять от силы полчаса, погода стояла ясная и с ориентированием не было проблем - текущая внизу по горному распадку река Кабул выводила прямо к месту назначения. Взлет из Кабула прошел без препон, самолет набрал высоту по «короткой схеме» и взял курс на Джелалабад. На аэродром назначения самолет не прибыл — в 24 км от кабульского аэропорта Ан-12 был поражен зенитной ракетой, упал и взорвался. Попадание произошло на высоте 6400 м, где никакие прежние средства поражения достать самолет не могли. Для расследования происшествия организовали оперативную группу под руководством замначальника штаба армии полковника М. Симонова. Пройдя по маршруту полета самолета, в горах удалось обнаружить позицию стрелка-зенитчика, где валялись «отстрелянные элементы неизвестного ранее зенитного комплекса». Надо отдать должное стрелку: установив трассу пролета самолетов, он нашел уязвимое место - сразу после взлета тем приходилось проходить над горным хребтом Чанангар трехкилометровой высоты. Забравшись на вершину, стрелок сумел произвести прицельный пуск с предельного удаления и ракета точно попала в цель. Похоже, что речь шла о тех самых «первых ласточках», подоспевших из учебных центров и действовавших умело и тактически грамотно. Зенитный расчет состоял из двух человек - стрелка и его помощника, наблюдавшего за воздушной обстановкой и держащего наготове вторую ракету для перезарядки, а также двух бойцов группы прикрытия. То, что произошедшее - не случайность, подтвердилось в тот же день: неподалеку, в том же районе у Суруби, с применением ПЗРК были сбиты разом два вертолета Ми-24 из джелалабадского 335-го полка. Вертолетчики работали по своему плану, к перелету Ан-12 никакого отношения не имели, но такие трагические результаты одного субботнего дня никак не выглядели простым совпадением. Происшествие с Ан-12 Хомутовского по числу жертв стало наиболее тяжелым с машинами этого типа за все время афганских событий - на борту транспортника погибли сразу 29 человек, весь экипаж и пассажиры. Ровно через четыре недели, 27 декабря, и вновь в субботний день, 50-й осап понес еще одну потерю: с применением ПЗРК был сбит в районе Бараки самолет-ретранслятор Ан-26РТ капитана С. Галкина из состава 2-й эскадрильи полка. Самолет шел на высоте 8500 м, что не помешало вражескому стрелку. Противник стрелял дважды, по обоим двигателям. Летчики пытались тянуть к Кабулу, но вызванный попаданиями пожар и потеря управления вынудили их оставить машину и выброситься с парашютами на подлете к аэродрому. Самолет не смог покинуть бортмеханик прапорщик Б. Бумажкин. Накануне буквально чудом удалось избежать еще одной потери. 26 декабря над тем же горным массивом у Бараки ракета попала точно в крайний левый двигатель Ан-12БК СССР-11987, шедшего рейсом на Хост. Самолет из 200-й отаэ с экипажем капитана А.Н. Мжельского подвергся обстрелу уже после набора высоты в безопасной зоне, после выхода на эшелон 6500 м. Начался пожар, летчики попытались устранить его, перекрыв подачу топлива в двигатель и включив пожаротушение, но из-за перебитых магистралей огонь успел охватить мотогондолу и распространился по крылу. Остроты и без того критической ситуации придавало наличие на борту значительного груза бензина в четырех двухтонных емкостях. На счастье, до Кабула было всего семьдесят километров и экипажу удалось развернуться и дотянуть до аэродрома. Мастерство летчиков помогло продержаться в воздухе показавшиеся бесконечно долгими десять минут, спасти машину и произвести посадку. Раздуваемый потоком пожар силовой установки продолжался до самой земли, из-за чего выгорела добрая треть левого закрылка. Почувствовав, что самолет тянет в опасный крен, летчики ограничились неполным выпуском закрылков и выполнили посадку с ходу, не тратя время на маневры. Кормовому стрелку рядовому Столярову приказывали прыгать, пока была высота, но тот медлил с покиданием машины - как-никак, весь остальной экипаж оставался на местах. Уже при касании земли, когда за двигателем вновь выхлестнуло черное копотное пламя, остававшийся один в своей кормовой кабине стрелок не выдержал нервного напряжения, открыл аварийный люк, на большой скорости вывалился прямо на бетонку и разбился. Рядовой Игорь Столяров был связистом и мог бы нести службу на земле, однако попал в состав экипажа по своей настойчивости, гордясь тем, что стал летчиком. Столяров остался самым молодым из погибших летчиков-транспортников: по злой прихоти судьбы, трагическое происшествие случилось накануне его дня рождения — на следующий день ему должно было исполниться 20 лет... Изувеченный закопченный самолет долго стоял на стоянке в ожидании ремонта. Повреждения от пожара были таковы, что восстановить его хотя бы для перелета на ремзавод было большой проблемой: прежде дело ограничивалось пробоинами или заменой отдельных агрегатов самолетных систем, на этот раз требовалось либо восстанавливать, либо менять целиком практически всю среднюю часть крыла, которую каким-то образом надо было доставить, не говоря уже о прогоревшей паре секций закрылка. Хватало и прочих дефектов, так что непонятно было даже, с чего начать. Ремонт порядком затянулся, но в конце концов самолет привели в летное состояние (не обошлось, правда, и без «тихих слов» ремонтной бригады в адрес летчиков, доставивших на базу «эту руину»). Сама «короткая схема» с необходимостью маневрирования на режимах, близких к крайним, когда допущенную летчиком ошибку с некоторого момента уже не удается исправить, являлась непростой задачей. Большие градиенты снижения и набора по спирали с почти предельными углами и кренами, когда самолет балансировал на грани «управляемого срыва», требовали хорошей выучки, высокого профессионализма и слетанности экипажа (под градиентом понимается быстрота изменения какого-либо параметра, в данном случае - высоты). Для их отработки и поддержания навыков экипажами периодически производились тренировочные полеты; «война войной, а учеба -по расписанию», и предусмотренные курсом боевой подготовки упражнения в плановом порядке продолжали выполняться летчиками. 25 сентября 1986 года при выполнении полетов по кругу для отработки посадочного захода по укороченной схеме вновь прибывшим экипажем 1-й эскадрильи 50-го осап была произведена посадка без шасси. При разборе происшествия выяснилось, что борттехник с непривычки просто не успел его выпустить. Обычным образом полет по кругу продолжался 12-15 минут, а тут машина с разворота пошла на посадку уже на четвертой минуте («покатилась быстро, словно с горки»), причем занятость остальных членов экипажа не позволила тем заметить, что шасси остается убранным и лампочки сигнализации горят красным. Самолет с грохотом проехал брюхом по бетону, его развернуло и вынесло на грунт, где он пропахал еще пару сотен метров, задел землю крылом и замер в тучах пыли. Никто на борту не пострадал, но самолет изрядно пострадал, конструкцию «повело» и его оставалось только списать. Этот Ан-12 с бортовым номером СССР-11408 закончил свои дни на свалке кабульского аэродрома, послужив напоследок в качестве источника запчастей, всяческих нужных трубок и электроарматуры не только своим собратьям, но и авиаторам других частей, благо на большой машине этого добра хватало на всех. Всего за четыре последних месяца 1986 года, с сентября по декабрь, 50-й полк потерял сбитыми и выведенными из строя четыре Ан-12 и Ан-26. Следующий год облегчения не принес: противник продолжал набирать силы, получая новейшее вооружение, совершенствуя выучку и тактику. В качестве меры безопасности полеты транспортной авиации стали выполняться по ночам, когда самолет под прикрытием темноты был не так заметен. На аэродромы с наиболее опасной обстановкой, как Хост и Джелалабад, летали преимущественно небольшие юркие Ан-26, а снабжение лежащего в горах Файзабада, куда самолетами летать было и сложно, и опасно, и вовсе осуществляли с помощью вертолетов Ми-6. Объявленное властями национальное примирение, вступившее в силу в январе 1987 г., ожидаемых результатов не принесло. Щедро снабжаемый противник отнюдь не собирался мириться с «неверными» и отступниками из Кабула, да и военное дело для моджахедов выглядело куда привычнее и достойнее, чем дипломатические маневры. В беспрерывно воюющей стране успело вырасти целое поколение, не знавшее иного орудия труда, кроме пулемета. Уступки со стороны властей для рядовых моджахедов и их лидеров, признающих только силу и самостоятельность, при полном недоверии к государству, выглядели проявлением слабости Кабула, о чем было известно обеим сторонам — в докладе начальнику Главного Политуправления Советской Армии о результатах предпринятых действий без обиняков говорилось: «Лишь благодаря присутствию 40-й армии нынешнее правительство удерживается у власти». Параллельно ГлавПУР указывал на необходимость перехода к «миротворческим, социальным и пропагандистским задачам», что сказалось даже на тоне боевых донесений и прочих документов, куда предписано было внести «лексические изменения»: так, слова «мятежники», «душманы», «бандформирования» заменялись на «оппозиционеры», «противники перемирия», «вооруженные отряды» (в этой уступке ощутимо проглядывала дань изменившемуся положению дел — как известно, «мятеж не может кончиться удачей — в противном случае его зовут иначе»). Спохватившись, и нового главу афганского правительства стали именовать полным именем Наджибула; как оказалось, прежде употреблявшаяся форма его имени Наджиб была фамильярно-уничижительной и не очень-то приветствуемой для уважаемого человека, каковым являлся лидер страны. Достигнутые договоренности о прекращении огня и установлении «договорных зон», в которых, по идее, противники должны были воздерживаться от применения оружия, оппозиция использовала «на всю катушку» в своих целях, пополняя силы и укрепляя опору среди населения. Взамен отказа от боевых действий у властей выторговывали помощь продовольствием, топливом и медикаментами. Очевидным образом, подобное «налаживание отношений» требовало растущего объема поставок из СССР самых разнообразных товаров. На 1987 г. была запланирована безвозмездная помощь СССР дружественной стране в размере 140 млн. рублей, прочие же запросы Кабула в советском Внешторге откровенно называли иждивенчеством, притом необратимого характера. Что правда, то правда — на этот год афганская сторона «выражала заинтересованность» в получении безвозмездно (то есть даром) 1 млрд. рублей, половину суммы рассчитывая потратить на обновление армии и денежное обеспечение своих военных, в несколько раз увеличив им денежное довольствие. Толку от этого оказалось не больно много — в армии с каждым месяцем продолжало расти дезертирство, из-за которого только за первые четыре месяца «национального примирения» разбежались или перешли к противнику 11 тыс. военнослужащих. Для транспортной авиации вновь настали горячие дни: для поддержки Кабула требовались масштабные перевозки, при которых, помимо поставок новенького снаряжения, основательно подчищались армейские склады, где с давних времен были запасены изрядные залежи оружия и всевозможного имущества, давным-давно снятого со снабжения в Советской Армии. Должное внимание уделялось и доставке средств спецпропаганды на противника — листовок, которых каждый год завозили более 5 млн. штук, и других агитматериалов, клеймивших контрреволюцию и рассказывавших об афгано-советской дружбе. Форму изложения старались подобрать подоступнее, в виде карикатур на противника и нарочито примитивных комиксов в картинках, доступных пониманию по большей части неграмотного населения. Широко использовались исламские мотивы, суры из Корана, первая из которых как раз и призывала к «миру в сердцах», в оформлении преобладал зеленый мусульманский цвет. Популярным сюжетом было противопоставление трудового крестьянства погрязшей в безнравственности оппозиции, проводящей время в безделье и пороке, с вином и женщинами, что должно было внушить отвращение истинному правоверному. Ввиду той же неграмотности населения большое значение уделялось радиовещанию. С этой целью в Кабул специально было доставлено оборудование для развертывания радиостанции «Афган гак» («Голос афганца»), начавшей вещание с марта 1986 г. на языках пушту и дари. Ее передачи, помимо агитационных программ, включали проповеди афганского духовенства из числа лояльно настроенных мулл, музыку и песни и были весьма популярными среди публики. Работа «Голоса афганца» имела успех, и командование армии выходило с предложением бесплатной раздачи населению дешевых простеньких радиоприемников с фиксированной частотой, с помощью которых можно было бы расширить аудиторию и сеять «разумное, доброе, вечное» непосредственно среди населения и оппозиции. Менее известно было, что управление радиостанции полностью находится в ведении политотдела 40-й армии в рамках планов ведения спецпропаганды. Что же касается расширения аудитории за счет раздачи малогабаритных радиоприемников, то реализовать его не удалось — отечественная радиопромышленность отказалась связываться с не очень прибыльным проектом (в производстве таких устройств не было, а разработка и организация выпуска требовали расходов с непременными согласованиями и включением в план, грозя неминуемым «долгим ящиком»). Противная сторона оценила выгоды пропагандистской работы еще раньше: душманы также наладили радиовещание, причем передачи были ориентированы не только на население, но и на советских военных. Время от времени на привычных частотах вместо «Маяка» и «Юности» можно было наткнуться на программу на вполне приличном русском языке, которую вел местный «комментатор». После обязательной молитвы и бравурных мотивов следовали сообщения об очередных победах над «советскими оккупантами» и прочих военных успехах моджахедов, после которых те «победоносно отступили в горы, а русские беспорядочно бежали за ними». Агитационная работа нередко давала вполне определенные последствия, правда, с примечанием: «Разъяснительная работа среди афганцев оказывается наиболее результативной в тех случаях, когда она подкрепляется оказанием материальной помощи». В страну начали возвращаться беженцы, которых, от греха подальше, перевозили транспортными самолетами вглубь страны, подальше от зоны боевых действий, поскольку не было никакой уверенности в том, что обделенные люди завтра не окажутся в стане противника. Такими рейсами перебрасывались целые племена из нескольких сот человек, со всем скарбом и непременным оружием как атрибутом быта. На этот счет действовала специальная инструкция, предписывавшая на время полета оружие изымать и хранить в кабине экипажа в течение всего перелета. С помощью транспортной авиации осуществлялись также поездки афганских активистов в республики советской Средней Азии, организуемые по плану политотдела ТуркВО. Такие «экскурсии» проводились с 1987 г. по два раза в год, имея целью демонстрацию успехов социалистического строительства, и включали поездки в колхозы, на предприятия и в воинские части. Среди афганцев они пользовались большой популярностью не только из-за интереса к достижениям среднеазиатских колхозников — в Ташкенте и Фергане скупалось все подряд, от одеял и подушек до кастрюль, галош, чайников и особенно любимых ватников — всего, чего не было в Афганистане, где достоинства советских товаров считались неоспоримыми. Обратно афганцы возвращались нагруженные впечатлениями и тюками, которым могли бы позавидовать наши «челноки». Поездками поощрялись в большинстве своем явно не кабинетные работники: прибывшие по привычке норовили не расставаться с оружием, многие имели шрамы от боевых ранений, а иные и вовсе были инвалидами без руки или ноги и можно было только догадываться, чего стоила им жизнь в родных селениях. Основная масса оппозиции вовсе не собиралась сотрудничать с властями, примыкая к «непримиримым», благо, что у тех были свои каналы поддержки из-за рубежа. Источники эти являлись весьма изобильными, позволяя наращивать численность и боеготовность, о чем убедительно свидетельствовали цифры: за первые шесть месяцев 1987 г. число нападений на советские посты, заставы и колонны возросло втрое по сравнению с прошлым годом. В свою очередь, уже через две недели после объявления национального примирения командующий 40-й армией издал приказ — на каждую вылазку противника отвечать достойным ударом. При общем курсе на ограничение боевых действий и начатой подготовке к выводу войск ВВС 40-й армии продолжали нести все увеличивающиеся потери. По их числу 1987 г. стал пиковым — были сбиты 19 самолетов и 49 вертолетов, из них 17 — с применением ПЗРК (в предыдущем году ракетами были сбиты 23 машины). Данные о количестве зенитных средств у противника разнились — в большинстве своем они поступали по агентурным каналам «с той стороны», а афганцы-информаторы заслуженно носили репутацию «бородатых сказочников», сообразно вознаграждению готовых рассказать все, что угодно. Однако растущее число потерь авиации было убедительным свидетельством растущих сил ПВО противника, как и количество захватываемых в числе трофеев ПЗРК и прочих зенитных средств.  Захваченное у душманов оружие доставлено на аэродром Кандагара. Летчики и техники осматривают трофейные зенитные пулеметы ДШК и крупнокалиберные установки ЗГУ В ходе проводимых армейскими частями операций за первое полугодие 1987 г. (к 15 июня) были уничтожены 461 ДШК и ЗГУ, а также 121 ПЗРК, еще 170 ДШК и ЗГУ и 171 ПЗРК достались в качестве трофеев. Нетрудно заметить, что ПЗРК в числе захваченный трофеев занимали весомое место, что говорило не только об их количестве у противника — причины были вполне прозаическими: взятый с боем крупнокалиберный пулемет был просто-напросто неподъемным, сам по себе ДШК весил три пуда (48,5 кг без станка и патронов), а со станиной-треногой и патронным ящиком аж 157 кг, из-за чего дотащить его к вертолету или боевой машине для вывоза было нелегко и обычно зенитные установки уничтожали, выламывая детали или подрывая на месте, тогда как «затрофеить» и доставить на базу ПЗРК, справедливо именовавшийся «переносным», было куда проще. И, наконец, за захват такого опасного оружия, как ПЗРК, представленного не на бумаге, а в виде «чистого результата», вполне можно было рассчитывать на заслуженную награду (за первые «Стингеры» прямо обещали звезду Героя). Значимость таких трофеев более чем оправдывала усилия — каждый захваченный и уничтоженный ПЗРК означал не только сбереженные самолеты, вертолеты и жизни летчиков, но и позволял рассчитывать на сохранение свободы действий в воздухе, авиационную поддержку и те же транспортные перевозки, за которыми противник вел настоящую охоту. Неприятностей и без того хватало — за 1987 г. 50-й осап лишился четырех транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26, два из которых погибли вместе с экипажами. 12 июля 1987 г. потерпел катастрофу выполнявший рейс в Кандагар Ан-12. На посадке с боковым ветром летчики не успели выровнять машину и грубо «приложили» ее о землю. Подломилась правая стойка шасси, после чего самолет вынесло с полосы, развернув хвостом вперед. Самолет оказался на грунте напротив аэродромной ТЭЧ, попав на минное поле полосы прикрытия аэродрома. После подрыва сразу нескольких мин самолет загорелся. Экипаж капитана А. Б. Тимофеева и сопровождающие груз выскочили наружу и бросились врассыпную от разгоравшегося пожара. Поспешившие им на выручку люди начали тушить огонь, не зная о крайне опасном грузе на борту машины — самолет вез 7,5 т авиабомб. Огонь уже охватил фюзеляж самолета и хватило нескольких минут, чтобы бомбы сдетонировали. Взрывом самолет буквально разметало, кося людей вокруг осколками. Погибли 16 человек и были ранены 37. Среди погибших, помимо солдат и офицеров аэродромного батальона, оказались несколько вертолетчиков и техников находившейся рядом истребительно-бомбардировочной эскадрильи. Никто из экипажа Ан-12 не пострадал. После взрыва и пожара от самолета осталось только закопченное пятно и зарывшиеся в песок обгоревшие двигатели. Тут же догорали санитарный УАЗ, пожарная и поливочная машины, подогнанные для борьбы с огнем.  Ан-12БК из состава 50-го полка на аэродроме Кандагара. На заднем плане вертолеты здешнего 280-го ОВП. Зима 1987 г Последовавшее разбирательство раздало «всем сестрам по серьгам». Прибывшая комиссия провела разбор происшествия, примерно покарав правых и виноватых: выявлены были нарушения в руководстве полетами и организации прикрытия аэродрома, попутно приструнили личный состав за расшатавшуюся дисциплину. В дневнике одного из служивших тогда в Кандагаре осталось памятная запись: «Начальство быстро докопалось до сути наших неудач, досталось причастным и непричастным. Выгребли, у кого нашли, брагу, приказали снять с модулей антенны телевизоров, чтобы не демаскировали аэродром, сломали замечательную беседку для отдыха перед штабом полка (потому как не положено), провели строевые занятия со всеми частями авиагородка и велели организовать непременные политзанятия для укрепления нашей морали». Следующее происшествие с Ан-12 тоже не обошлось без жертв и опять-таки не стало результатом действий противника. Самолет капитана А.Д. Григорьева, принадлежавший 50-му осап, совершал рейс из Кабула в Ташкент с грузом и 13 пассажирами на борту. Вылет 21 октября 1987 г. был ночным, свою роль, по-видимому, сыграло и то, что экипаж из шауляйского полка всего месяц назад прибыл в Афганистан. В Кабульском аэропорту в ночные часы творилось настоящее столпотворение: вылетали и садились транспортники, шли полеты вертолетов и штурмовиков, кружили пары прикрытия аэродрома, прилетал «Аэрофлот», по своим делам летали афганцы. Пока Ан-12 выруливал со стоянки, место на середине полосы занял Ми-24, запросивший контрольное висение и взлет. Остановившись на исполнительном старте, командир Ан-12 тоже обратился к руководителю полетов за «добром» на взлет. Позывные их были похожими и с вышки, приняв доклад Ан-12 за повторный запрос вертолета, ответили: «Я вам уже разрешил». Приняв ответ на свой счет, летчики транспортника начали разбег. Уже на порядочной скорости, начав поднимать нос самолета, в свете фар они увидели висящий вертолет. Уходить было некуда, летчики попытались перескочить препятствие и столкнулись с вертолетом. Ан-12 рухнул тут же у полосы и сгорел со всеми находившимися на борту (роковое число 13 пассажиров сыграло-таки свою роль), в живых остался только стрелок, которому посчастливилось уцелеть в отлетевшей хвостовой части. Удивительным образом экипажу вертолета повезло куда больше — летчики остались практически невредимы, да и вертолет пострадал не очень сильно, отделавшись отлетевшим хвостовым винтом и повреждениями концевой балки. Ан-12 при самом столкновении также пострадал не сильно, самолет погубила именно скорость: транспортник разогнался и не мог затормозить, но при попытке «подорвать» машину, резко взяв штурвал на себя — а иного выхода у летчиков не было, — скорость оказалась явно недостаточной и маневр привел к сваливанию самолета, падению и катастрофическим последствиям при ударе о землю. А вот оба потерянных Ан-26 стали жертвами ПЗРК. Один из них, «почтовик» капитана М. Мельникова, уже следующей ночью 22 октября 1987 г. был сбит ракетой при заходе на посадку в Джелалабаде и разбился со всем экипажем и несколькими пассажирами. Следующая потеря произошла ровно два месяца спустя и вновь пришлась на то же 21-е число, что и в октябре. Самолет возвращался в Кабул после доставки командующего 40-й армией Б.В. Громова и был сбит прямо у Баграмского аэродрома на втором витке набора высоты. Экипаж покинул машину с парашютами, но -его спасение далось ценой жизни командира — майор В. Ковалев до последних минут удерживал управление горящим самолетом и для раскрытия собственного парашюта ему уже не хватило высоты. Посмертно военный летчик 1-го класса майор В.А. Ковалев был награжден Золотой звездой Героя Советского Союза, став единственным летчиком ВТА, удостоенным этого звания за все время афганской войны.  Транспортники Ан-12 и Ан-26 но стоянке аэродрома Баграм. На этот раз Ан-26 несёт звёзды, ясно говорящие о его принадлежности ВВС, а Ан-12БК отличается гражданской маркировкой с «аэрофлотовским» флажком 13 августа 1987 г. от применения ПЗРК пострадал еще один Ан-12. Несмотря на несчастливое число, дело обошлось благополучно. Ракета не взорвалась и самолет после попадания в него ракеты смог совершить вынужденную посадку в кабульском аэропорту. Это был самолет капитана Дворовенко из 200-й отаэ. Он шел по маршруту на эшелоне 9200 м, имея превышение над горной грядой 6400 м, когда был подстрелен в районе Гардеза. Взрыватель ракеты не сработал, но прямым попаданием корпуса «Стингера» снесло треть нижней панели стабилизатора вместе с зализом сочленения оперения и фюзеляжа и вырвало кислородные баллоны кормовой кабины. При осмотре после посадки выяснилось, что силовые части каркаса оперения удачным образом оказались не задетыми, в результате чего машину довольно быстро вернули в строй. Неясным оставалось, как ракеты ПЗРК настигают цели на высотах, куда больше «паспортных», ведь у того же «Стингера», при всем его совершенстве, граница досягаемости по высотности составляла порядка 3500 м (пусть даже до 4500 м по рекламным данным). По всей видимости, дело было в том, что душманские стрелки умело использовали позиции на горных пиках и перевалах, не только выигрывая в высоте «отправной точки», но и, сами того не ведая, получая выгоды из-за того, что ракета стартовала в разреженном воздухе. Благодаря меньшей плотности воздуха ракета имела значительно меньшее сопротивление полету, лучше разгонялась и, затем, на пассивном участке слабее тормозилась, за счет чего достигала существенно большей высоты (по прикидкам, при пуске с площадки на трехкилометровой высоте можно было рассчитывать на повышение границы досягаемости еще на 1500-1800 м). Подтверждением этим выкладкам было и то, что даже пули в горах летели дальше, что знал всякий грамотный снайпер. Такие результаты давали обширную информацию к размышлению об эффективности защиты транспортных машин. По данным инженерного отдела ВВС 40-й армии, за период 1984—1987 гг. были отмечены 36 случаев обстрела ракетами самолетов Ан-12, пять из которых получили попадания. Во всех случаях поражение происходило, когда тепловые ловушки по каким-то причинам не использовались. При их своевременном отстреле ни одного попадания не было. По самолетам Ан-26 пуски ракет наблюдались 41 раз, при этом поражены были три самолета, с которых ловушки не применялись и ни один — при их применении (почему-то в отчетности не нашел отражения случай с Ковалевым, чей Ан-26 был сбит, хотя и вел отстрел АСО, на которые ушла первая пущенная ракета, но вторая попала точно в двигатель). ИК-ловушки не использовались и их отстрел прекращался, когда высота считалась достаточной, хотя «Стингер» порядком отодвинул представления о безопасных эшелонах полета. Всего за годы афганской компании в результате воздействия ПЗРК противника были потеряны два самолета Ан-12 и шесть самолетов Ан-26 и Ан-30, что является достаточно убедительным свидетельством надежности и эффективности использовавшихся на этих типах машин систем защиты — в первую очередь, благодаря применению на Ан-12 более мощных и действенных ИК-патронов, дававших Ан-12 очевидные преимущества (сопоставление является вполне корректным ввиду почти равного числа машин этих типов, находившихся в ВВС 40-й армии и сходности обстановки, в которой им приходилось работать, причем интенсивность боевой деятельности Ан-12 была даже выше). Для разнообразия можно привести данные о результативности ПЗРК, называемые западной стороной (хотя эти цифры появлялись в «свободной прессе» с подачи самих моджахедов, гораздых в описании своих подвигов, и в самой малой мере могли претендовать на объективность). Согласно опубликованного в июле 1989 г. специального документа армейского руководства США утверждалось, что за период с сентября 1986 г. по февраль 1989 г. в результате применения ПЗРК «Стингер» афганские партизаны сбили 269 самолетов и вертолетов, произведя 340 пусков ракет. Составители доклада и сами не отрицали, что приведенные данные выглядят «немного слишком хорошо» — такая результативность означала, что средний процент попаданий достигал 80%, что было куда выше, чем в самой американской армии при стрельбах хорошо обученными расчетами и в идеальной полигонной обстановке. Хотя американцы и допускали «некоторые неточности» в описании душманских успехов, однако вряд ли представляли, что те преувеличены аж впятеро, а реальные потери советской и афганской авиации от ПЗРК всех типов за указанный период составляли едва 20% от названной цифры, и повествования душманских информаторов больше всего напоминали охотничьи рассказы известного своей правдивостью барона. Каким образом появляются подобные реляции, поведал один из моджахедов по имени Махмуд, летом 1987 г. решивший заработать более простым путем и сдавший свой «Стингер» за вознаграждение афганским властям (такое предложение сдавать оружие за вполне приличные деньги пропагандировалось среди населения, содержалось во многих листовках и время от времени приносило вполне реальные плоды). Вчерашний моджахед, прошедший двухмесячные курсы в Пакистане, рассказывал: «За время учебы несколько «четверок» со «Стингерами» уходило в рейд, а затем они возвращались уже без ракет. Одни говорили, что сбили «там-то» военный самолет русских. Другие рассказывали, что их окружил отряд народной милиции, но они с боем прорвались к границе, бросив пусковые установки. Им, конечно, не очень-то верили, но доказать ничего нельзя. Янки подробно опрашивают всех и лично проверяют пусковые установки. Люди, которым их вручают, идут на разные хитрости, чтобы избежать риска, но получить деньги. Например, запустят ракету в воздух и отсидятся в горах, а затем возвращаются с «победой», хотя никаких самолетов они не видели. После проверки установок американцы что-то записывают, потом выдают новую ракету. Это у них называется «контроль». Активность моджахедов напрямую связывалась и с тем, что афганская армия в ходе осуществления курса национального примирения стала демонстрировать все более «миролюбивую» позицию, воздерживаясь от боевых действий и без боя уступая противнику свои позиции, гарнизоны и целые районы. Характеризуя поведение правительственных войск, наши советники прямо говорили о «саботаже» армейских чиновников. В цифрах картина выглядела еще более показательной: хотя афганцы, по крайней мере, на бумаге располагали силами втрое большими, чем 40-я армия, успехи их были скорее символическими. Что касается успехов в борьбе с зенитными средствами, то за упомянутый период первого полугодия 1987 г. правительственные войска рапортовали об уничтожении 60 единиц ДШК и ЗГУ (еще 49 были захвачены) и аж 7 ПЗРК, тогда как советскими частями, как уже говорилось выше, ущерб душманской ПВО был нанесен куда более впечатляющий — крупнокалиберных зенитных пулеметных установок ими было уничтожено и захвачено в шесть раз больше, нежели всей афганской армией — 631 и 109, соответственно. По результативности борьбы с ПЗРК успехи наших войск были и вовсе выше в сорок (!) раз — 292 и 7 единиц, соответственно. Хотя численность афганской армии к концу 1987 г. увеличилась вдвое, слова об «обострившемся положении» звучали рефреном в сообщениях повально из всех провинций. Даже на этом фоне особенно критично выглядела ситуация вокруг Хоста, оказавшегося в сплошной блокаде. Город и гарнизон были практически отрезаны от центра и удерживались исключительно благодаря усилиям командира здешней 25-й пехотной дивизии генерал-майора Асефа и снабжению транспортной авиацией. Умелый организатор и лихой командир, Асеф держал свою вотчину в кулаке, требуя лишь поддержки боеприпасами и продовольствием. Положение усугублялось тем, что противником в округе выступали бойцы местного племени джадран, и в лучшие времена не признававшие ни короля, ни правительства. Черту своих владений они проводили по перевалу Сатыкандав, через который и тянулась единственная дорога к Хосту. Ходу по ней не было уже многие месяцы, и все снабжение гарнизона и города велось преимущественно по воздуху. Осенью 1987 г. и «воздушный мост» поддерживался с трудом. Летать старались все больше по ночам, но потерь избежать не удавалось. Если советским экипажам везло и ни одной машины они здесь не потеряли, то афганские транспортники то и дело попадали под огонь. К августу 1987 г. при полетах в Хост были сбиты пять афганских Ан-26 и четыре транспортных вертолета с большими людскими потерями. Последней каплей стали сообщения о том, что лидеры оппозиции планируют обосноваться в Хосте, считая его судьбу решенной, и собираются разместить там свое «афганское правительство». Это грозило утратой позиций Кабула на международной арене: одно дело — прячущиеся в горах противники власти, и совсем другое — самодеятельное оппозиционное правительство тут же на территории страны, претендующее на признание и помощь. Удержание Хоста тем самым превращалось в политическую проблему соответствующего значения. Для ее разрешения была спланирована и организована операция «Магистраль» по разблокированию города, имевшая целью как практические задачи по обеспечению проводки в Хост автоколонн с грузами и созданию необходимых запасов, так и «стратегический» аспект — демонстрацию возможностей армии по контролю за положением. «Магистраль» явилась тем более примечательным явлением, что стала последней крупной операцией советских войск в афганской войне. К ее осуществлению в ноябре-феврале 1987 г. были привлечены силы 108-й и 201-й мотострелковых дивизий, 103-й воздушно-десантной дивизии, 56-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 345-го отдельного парашютно-десантного полка, ряда других частей и подразделений. С афганской стороны были задействованы силы и средства пяти пехотных дивизий (8-й, 11-й, 12-й, 14-й и 25-й), а также 15-й танковой бригады и частей «коммандос». После взятия перевала Сатыкандав было решено продолжить операцию встречными действиями, организовав выступление частей из Хоста навстречу основным силам. Для этого на аэродром Хоста транспортной авиацией были переброшены батальон советских войск и бригада афганских коммандос. В итоге дорога на Хост полностью была взята под контроль 30 декабря, за сутки до Нового года, по ней пошли машины с грузами. В город грузовиками 40-й армии были переброшены 24 тыс. тонн боеприпасов, продовольствия и горючего, после чего войска отвели обратно и... ситуация восстановилась: противник оседлал дорогу и Хост вновь оказался в круговой обороне, поддерживая сообщения с центром только по воздуху. Пролитой здесь кровью были оплачены исключительно амбиции Кабула — никаких советских частей, нуждавшихся в поддержке, ни в Хосте, ни в округе не было. Что же касается драматизма ситуации с Хостинской блокадой, то ее разрешение, по всей видимости, было плодом настойчивости афганских властей. Противник на деле не очень-то выказывал стремления штурмовать город, остававшийся в том же положении до самого ухода советских войск из Афганистана и даже тремя годами спустя. Продолжали досаждать непрекращающиеся обстрелы авиабаз, особенно чувствительные в Кабуле и Баграме, где душманы действовали под прикрытием селений, подступавших непосредственно к аэродромам. Под праздник Дня авиации в августе 1987 г. у Баграма разгорелась настоящая битва, стычки шли прямо у периметра аэродрома, стоянки то и дело накрывали разрывы мин и реактивных снарядов. Оборону пришлось держать не только батальону охраны, но и самим авиаторам, занимавшим позиции с оружием в руках. Авиатехнику на случай обстрелов старались рассредоточить по аэродрому, но на стоянке транспортников самолеты стояли крыло к крылу, да и сама объемистая машина была привлекательной мишенью. Близким разрывом задело «черный тюльпан» Ан-12 (борт №18), поврежденный осколками, ранения получили и двое солдат, отправлявших «груз 200». Прямыми попаданиями накрыло также ТЭЧ 50-го авиаполка, где были убитые и раненые. В Баграме тогда за один день повреждения от мин и снарядов получили две дюжины самолетов и вертолетов. Новое нападение не заставило себя ждать — через несколько дней, 21 августа, душманы предприняли очередной огневой налет, вновь накрывший расположение 50-го полка. Летчики и техники собрались на траурный митинг для прощания с погибшими накануне, когда прямо на стоянке начали рваться снаряды. Вновь были раненые и повреждения техники.  Транспортники но стоянке прилетающих самолетов Баграмской авиабазы. На переднем плане — МиГ-23МЛД и летчики-истребители из дежурного звена 120-го иап. Зима 1989 г Не менее напряженной сложилась обстановка у Баграма в апреле 1988 г. Объявленный с 15 мая вывод советских войск инициировал действия здешних формирований оппозиции, решивших не дожидаться, пока «яблоко упадет с дерева» и начавших занимать подступы к базе. Нацеливаясь на слабые места в поясе охраны аэродрома, душманы стали вытеснять афганские части с оборонительных позиций и постов, воздерживаясь при этом связываться с советскими войсками, с которыми прежде была достигнута договоренность о взаимном нейтралитете (банды считались «договорными»). Транспортники 200-й эскадрильи при этом оказались в не самом выгодном положении, поскольку их стоянки находились непосредственно рядом с «демократовскими» и пальба шла рядом. В помощь была привлечена правительственная авиация, наносившая удары по противнику тут же у окраины аэродрома. Взлетавшие самолеты едва успевали убрать шасси и тут же сбрасывали бомбы, все действо разворачивалось прямо на глазах аэродромного люда, наблюдавшего за сражением. Подвергаясь в течение нескольких дней непрерывным бомбоштурмовым ударам, противник потерял до 300 человек, не выдержал и отступился от своих планов. Не менее жарко приходилось и в Кабуле. Столичное положение города делало его особо привлекательной целью для моджахедов всех мастей и ориентации. Обстрелять Кабул, символ политической власти, было проявлением доблести, повышавшей самооценку и престиж среди партнеров и соперников. Для защиты города служили два пояса охраны, ближний из которых включал заставы по периметру собственно Кабула, а посты дальнего пояса размещались на горных вершинах вокруг, препятствуя проникновению в оборонительное кольцо крупных банд и подготовке обстрелов. Полностью исключить их не удавалось — этому препятствовала сама обстановка со сложным рельефом, множеством горных проходов и троп, да и на вооружении моджахедов появились средства нападения со все большей дальностью стрельбы — новые реактивные снаряды позволяли вести огонь с расстояния до полутора десятков километров, прячась в горах. Особенно уязвимым оказался столичный аэродром, прикрыть который при большой занимаемой площади и открытости на местности было крайне трудно. Режимная зона Кабула составляла 1600 км2 со стопятидесятикилометровым периметром, для обороны которой были задействованы более 4500 человек, привлекались четыре-шесть артиллерийских дивизионов с сотней орудий и минометов, а также две вертолетных эскадрильи. Сама аэродромная зона прикрывалась 27 сторожевыми заставами и постами советских войск. Начавшийся в мае 1988 г. вывод частей 40-й армии из Афганистана отнюдь не сгладил положения. Первым его этапом, рассчитанным на три месяца, на родину возвращалась половина личного состава армии, преимущественно покидавшая дальние гарнизоны, в числе которых были Кандагар, Джелалабад, Кундуз и Файзабад. Противник в этих районах использовал ситуацию с выгодой для себя, получая большую свободу действий и устанавливая почти безраздельный контроль над округой и дорогами. Что до обстрелов и нападений на советские гарнизоны и места дислокации частей, то с иными из вожаков оппозиции удавалось договориться о взаимной сдержанности, другие, словно спохватившись и соперничая друг с другом, старались не упускать возможности проявить доблесть и «отметиться» по уходящим «шурави». В течение шести месяцев после начала вывода войск были произведены 26 огневых налетов на аэродромы, где находилась советская авиатехника. Особенно доставалось Кабулу — за год на город обрушились 635 ударов реактивными снарядами, отчего на столичном аэродроме авиация понесла потери большие, чем при всех обстрелах за предыдущие годы, вместе взятых. Крайне тяжелые последствия повлек за собой огневой налет на Кабульский аэродром 23 июня 1988 г. Разрывы реактивных снарядов накрыли стоянку штурмовиков Су-25, стоявших с полной заправкой и боезарядкой. При аэродромной тесноте самолеты стояли на открытом месте плотно, крыло к крылу, и начавшийся пожар тут же охватил всю стоянку, уничтожив восемь штурмовиков. Тут же лежали боеприпасы, а рядом находилась стоянка транспортников 50-го полка с десятком Ан-26 и несколькими Ан-12. Один из Ан-12 стоял рядом с горящими штурмовиками, в какой-то паре десятков метров. На беду, у транспортников не было никого из летчиков — те отдыхали после ночных полетов и отгонять машины в безопасное место было некому. Уже начали рваться боеприпасы и над самолетами засвистели осколки. Одним из первых к самолетам подоспел замкомэска 2-й эскадрильи майор Н. Данилов. Однако майор летал только на Ан-26 и никогда прежде не имел дела с Ан-12. Раздумывать, тем не менее, не приходилось и, подозвав одного из техников, летчик забрался в кабину Ан-12, рассчитывая разобраться на месте. И вновь незадача — техник оказался неважным помощником, ему тоже не приходилось работать на «больших» машинах. Кое-как определившись с незнакомым оборудованием в кабине, Данилов сумел запустить один двигатель, расстопорил рули и, сняв машину со стояночного тормоза, попытался двигаться с места. Самолет не слушался — тяги одного двигателя никак не хватало, а запустить второй от уже работающего летчику никак не удавалось. Раз за разом предпринимая попытки его «оживить», летчик добился своего. Дальнейшее было уже делом привычки: летчик вывел машину подальше от пожара и отрулил в зону рассредоточения. Вернувшись, Данилов занялся «своими» Ан-26, увел в безопасное место один, а затем и другой самолет. На вопросы, как он управился с незнакомой техникой, летчик отшучивался: «Как с велосипедом, кто раз научился ездить — всегда справится». За проявленную доблесть и спасение техники майора Н. Данилова представили к ордену Красного Знамени, однако «наверху» сочли, что «награда не соответствует занимаемой должности» и летчик достоин лишь «положенной» рядовому летному составу Красной Звезды (обычным порядком участвовавшие в боевых действиях летчики награждались в соответствующей иерархии: командный состав полка и, иногда, эскадрильи, получал ордена Красного Знамени, прочие летчики — Красной Звезды, руководство ИАС — «За службу Родине в Вооруженных Силах» и техсостав — «За боевые заслуги», и нужны были большие заслуги (или прочие достоинства), чтобы эту разнарядку изменить). Потерями и повреждениями от обстрела убытки в тот день далеко не были исчерпаны: пока летчики и техники полка спасали самолеты и боролись с огнем, к месту пожара подоспели соседи-афганцы. Подсуетившись на разоренной стоянке, «союзники» живо растащили все остававшееся имущество, плохо ли, хорошо лежавшее — самолетные чехлы, инструмент и прочее добро, мало-мальски годившееся в хозяйстве. Тяжелый для авиации 40-й армии день на этом не закончился. По злой воле судьбы уже под утро следующего дня, 24 июня 1988 г., при перелете из Кабула в Баграм на посадке потерпел катастрофу Ан-26 комэска подполковника А. Касьяненко из 50-го полка, перевернувшийся и разбившийся со всем экипажем (уцелел только бортмеханик прапорщик С. Попов, подобранный поисковой группой). Уже под конец года, 13 ноября 1988 г., при очередном обстреле Кабульского аэродрома полк понес большие потери. Обстрел начался под вечер, когда летчики вертолетной эскадрильи собрались у телевизора смотреть хоккей с участием «Динамо». Тринадцатое число подтвердило свою недобрую славу: снаряд попал прямо в крышу строения и разорвался в комнате среди летчиков. Недобрая прихоть судьбы заключалась в том, что снаряд этот был шальным — неплохо информированный противник, без сомнения, знал о том, что как раз в это время из кабульского аэропорта должен был вылетать Ту-154 с советской правительственной комиссией во главе с Э.А. Шеварднадзе, обсуждавшей вопросы военных поставок. Огневой налет был приурочен точно к указанному времени. Самолет разбегался под аккомпанемент разрывов, однако для делегации все обошлось благополучно — машина оторвалась от земли, набрала высоту и ушла домой. Летчики прикрывавшего их вертолетного звена, вернувшись, узнали, что попадание разом унесло жизни 12 их товарищей. Это были наибольшие единовременные потери авиаторов 40-й армии, притом случившиеся за считанные недели до окончания войны. Такой же небезопасной оставалась обстановка и на других аэродромах, особенно там, где уже не оставалось гарнизонов советских войск и сил прикрытия, на которые можно было рассчитывать прилетающим транспортникам. Так, в Кандагаре для обеспечения хоть какого-то подобия безопасности окрестности аэродрома приходилось обрабатывать штурмовикам, приходившим за четыре сотни километров из Шинданда. Между тем здешний афганский гарнизон и остававшаяся группа советских десантников отчаянно нуждались в поддержке авиации, а снабжение могло осуществляться исключительно по воздуху. Распоряжавшийся в Кандагаре командир 2-го армейского корпуса генерал-губернатор Нурульхан Олюми, человек авторитетный и представительный, родной брат которого состоял помощником президента Наджибулы, вообще требовал только поддержки боеприпасами, все остальное добывая на месте. В округе у него везде были свои люди, и необходимое горючее и продовольствие попросту покупалось через здешних торговцев, которым боевые действия и блокада города особых помех не доставляли. Транспортники ходили в Кандагар в основном по ночам, доставляя патроны, снаряды и мины, а обратными рейсами забирали раненых. Поскольку с уходом советских войск надежное прикрытие аэродрома не гарантировалось, безопасность полетов Ил-76 в Кандагар не обеспечивалась. Большая и тяжелая машина была слишком заметной мишенью и их полеты в Кандагар пришлось прекратить. На этом направлении продолжали работать только Ан-12 и Ан-26, у которых взлетные и посадочные маневры по «короткой схеме» были более компактными. Это существенно осложнило транспортные проблемы: как-никак, Ил-76 брал на борт втрое больше груза, чем Ан-12, не говоря уже об Ан-26 с их пятитонной грузоподъемностью. Снабжение Кандагара теперь приходилось осуществлять «двухступенчатым» образом: необходимые грузы из Союза доставлялись в Кабул на Ил-76, где их забирали Ан-12 и Ан-26, выполнявшие рейсы в Кандагар. Показательным выглядело то, что планами вывода войск не предусматривалось сокращение авиатранспортных сил. Если в ходе первого этапа вывода армии численность ВВС 40-й армии сократилась на 45%, то транспортники «полтинника» и 200-й эскадрильи оставались на месте, сохраняя всю свою группировку и продолжая работать «на всю катушку». Более того, летом 1988 г. авиационные силы пополнила еще одна часть, 339-я отдельная смешанная эскадрилья центрального подчинения. Эскадрилья была в спешном порядке сформирована на базе ВВС Закавказского округа к 11 июля 1988 г. и переброшена в Кабул, имея целью работу в интересах советнического аппарата и, при необходимости, — вывоз личного состава и эвакуацию посольского персонала и правительства Афганистана. В экстренном случае, помимо столичного аэропорта, забирать людей предусматривалось также со стадиона Кабула, находившегося поближе к административным кварталам. С этой целью эскадрилью укомплектовали пятью Ми-8МТ, двумя Ан-26 и одним Ан-12, базировавшимися на отдельной стоянке кабульского аэродрома. Без дела ей сидеть не пришлось — хотя противник и не шел на приступ Кабула, летчики эскадрильи активно занимались выполнением разнообразных транспортных задач, а вертолетные экипажи вели патрулирование окрестностей столицы и, после выхода из строя целой эскадрильи 50-го осап, привлекались к работе со спецназом, высадке досмотровых групп и борьбе с караванами. Увеличению нагрузки на транспортную авиацию были очевидные обоснования: помимо обычных задач по снабжению частей 40-й армии, транспортники получили дополнительный объем работ по обеспечению вывода войск, их личного состава и средств. Только с кандагарской авиабазы требовалось вывести 280-й отдельный вертолетный полк, 205-ю отдельную вертолетную эскадрилью, штурмовую эскадрилью 378-го отдельного штурмового авиаполка и эскадрилью 979-го истребительного авиаполка со всеми причитающимися средствами, имуществом и многочисленным хозяйством. Помимо этого, существенно возросли потребности афганских войск. Мотивируя постоянно растущие потребности в поставках, Кабул в качестве довода приводил повышение значимости своей армии в противостоянии оппозиции. «Защита дела революции» нуждалась во все более значительной помощи: достаточно сказать, что в 1987 г. объемы советской военной поддержки возросли вдвое по сравнению с предыдущим годом, перевалив за миллиард рублей, а в 1988 г. увеличились еще на две трети, достигнув 1629 млн. рублей. Впрочем, это были еще цветочки: на 1989 г., компенсируя отсутствие советских войск, афганское правительство вытребовало сумму еще в два с лишним раза большую — 3972 млн. рублей; тем самым объемы поставок Кабулу достигли 10,9 млн. рублей ежедневно, притом что дома в советских республиках все ощутимее становился дефицит множества товаров, от мыла и прочего ширпотреба до хлеба и бензина, за которым у заправок выстраивались многочасовые очереди. Война вообще оказалась делом ненасытным и все более неподъемным, буквально разоряя страну. Помимо привычных заданий по перевозкам, силами транспортной авиации обеспечивалась доставка журналистских групп, прибывших освещать ход вывода войск в духе декларируемой открытости и гласности. Уже на первом этапе число журналистов от ведущих информационных агентств мира, включая европейские и американские, перевалило за 400, работали также 34 телевизионных и киногруппы. Представители информагентств, а также дипломатические работники от ООН и стран-наблюдателей прибывали в Ташкент, откуда их авиатранспортом перебрасывали в Кабул и, далее, здешними самолетами и вертолетами в гарнизоны, где они могли контролировать вывод войск и сопровождать колонны уходящих частей. Доставка наблюдателей и репортеров не обходилась без происшествий: самолет с первой же группой, прилетевшей на аэродром Джелалабада 14 мая 1988 г.а, садился ночью на обстреливаемом аэродроме под разрывы мин и пулеметные трассеры — моджахеды демонстрировали свой «сценарий» прощания с русскими. Неожиданным образом обернулась ситуация с уходом советских войск из Кундуза. Центр провинции на севере страны лежал в какой-то полусотне километров от советской границы и обстановка здесь считалась довольно сносной, к тому же здесь находились немалые силы афганской группы войск «Север» и формирования войск МВД и МГБ, считавшиеся опорой власти. Однако в Кундузе не нашлось деятельного правителя, подобного кандагарскому генерал-губернатору, а прочность правительственных сил на деле не выдержала первого же нажима со стороны противника. Имея почти пятикратное численное превосходство над отрядами оппозиции, те попросту разбежались при подходе моджахедов к городу и Кундуз был взят 8 августа 1988 г. безо всякого сопротивления. Местная власть и остатки гарнизона отступили на аэродром Кундуза, где укрылись под охраной подразделений 75-го пехотного полка. На запросы из центра обескураженные местные руководители объясняли случившееся повальным превосходством сил противника и их напором, превозмогшим героическое сопротивление защитников города, однако при детальном рассмотрении выяснилось, что «доблестные защитники» не имели в своих рядах ни погибших, ни раненых, а мэр города и часть верхушки МГБ и МВД при подходе моджахедов тут же перешли на их сторону. Для исправления положения в штабе 40-й армии оперативно подготовили план ответных действий. Опорным пунктом для их развития являлся именно аэродром Кундуза, остававшийся в своих руках. Речь шла не только о помощи незадачливому союзнику, но и о стратегическом развитии ситуации — Кундуз, четвертый по величине город страны, являлся крупным узловым центром, по близлежащим дорогам шло снабжение остававшихся частей 40-й армии, да и планам вывода войск соседство крупной группировки оппозиции могло стать серьезной помехой. Вечером 12 августа 1988 г. в Кундуз на Ан-12 вылетела группа офицеров штаба 40-й армии, а следом на Ан-26 — генералы и офицеры оперативной группы Минобороны СССР во главе с генералом армии В.И. Варенниковым. Аэродром Кундуза обстреливался противником, не работало радио и светотехническое обеспечение, из-за чего для освещения полосы к ней пришлось подогнать несколько БТР, обозначавших направление посадки светом фар. Командир Ан-12 майор В. Афанасьев в темноте сумел нормально посадить самолет, через час прибыл и Ан-26. Решающая роль в подготовке освобождения города отводилась авиации. На аэродром Кундуза по воздуху оперативно перебросили дополнительные силы афганской армии, включая «коммандос» и части 18-й пехотной дивизии правительственных войск. По находившимся в окрестностях формированиям оппозиции были нанесены бомбоштурмовые удары авиации, после чего Кундуз вновь был взят под контроль. Руководивший операцией генерал армии В.И. Варенников особо отмечал в своем докладе «решающую роль в освобождении Кундуза, которую сыграли переброшенные по воздуху из Центра войска». События вокруг Кундуза стали показательными не только в том отношении, что противник впервые сумел овладеть крупным административным центром и установить там, пусть и ненадолго, свою власть, что грозило «потерей лица» афганских правителей; существенным явилось и подтвердившееся значение аэродрома как опорной базы, своего рода крепости и источника поддержки, позволяющего удерживать позиции, получать подкрепления и, в конечном счете, добиться перелома ситуации в свою пользу (подобно тому, как американцы во вьетнамской войне использовали свои базы в качестве «непотопляемых авианосцев», удерживаемых и снабжаемых исключительно по воздуху). По мере приближения крайней даты вывода советских войск афганские правители демонстрировали все большую нервозность. Получив отрицательный ответ на неоднократные просьбы оставить хотя бы часть 40-й армии для поддержки «народной власти», правители Кабула сосредоточились на просьбах о предоставлении все более масштабной помощи, без обиняков заявляя, что от этого будет зависеть само выживание «дружественного Афганистана». Президент Наджибула на январских переговорах с советскими представителями открыто спекулировал возможным недовольством населения, а то и мятежом в столице, если только советской стороной не будет организован «воздушный мост» и созданы достаточные запасы продовольствия, горючего и прочих товаров. Дальше - больше: афганский президент «полагал бы желательным, чтобы на советских аэродромах в непосредственной близости от границы Афганистана на постоянном дежурстве находилось бы определенное количество авиасредств, которые можно было бы оперативно задействовать против мятежников в случае возникновения угрожающей ситуации в том или ином районе страны» (попросту говоря, речь шла о продолжении боевых действий советских вооруженных сил бомбардировками авиации и «экспедиционными средствами» с территории СССР). В конце концов договорились о первоочередной переброске силами советской ВТА 2000 т муки из Ташкента в Кабул, а также организации срочных мер по поддержке правительственных войск в Кандагаре. Поскольку город находился в полном окружении отрядами оппозиции, афганцы предлагали проводить туда колонны с грузами под прикрытием советских войск, что опять-таки означало неминуемое вовлечение их в бои, не говоря уже о непременном скандале с невыполнением международных обязательств при возвращении войск в недавно оставленный город. Сошлись на том, что советская сторона обязалась перебросить по воздуху с территории ТуркВО для поддержки Кандагара 3000 т боеприпасов и 20 единиц военной техники в срок до 4 февраля 1989 г. (дата являлась рубежом, к которому планировалось полностью вывести части 40-й армии уже и из афганской столицы). Эти обязательства означали непростую задачу для транспортной авиации, которой требовалось в течение пары недель обеспечить доставку выделенных грузов, для чего только Ан-12 следовало выполнить в Кандагар порядка 400—450 рейсов.  Обломки Ан-12 на окраине кабульского аэропорта Соответственно назначенным объемам работы потребовалось существенное увеличение оперативной группировки ВТА на приграничных аэродромах. Для этого понадобилось сосредоточить здесь силы, каких не было уже лет десять — со времени ввода советских войск. Старшим авиагруппировки ВТА являлся первый заместитель командующего ВТА генерал-лейтенант В.А. Трапезников, чей штаб находился в Ташкенте. С аэродрома Мары-2 работали 20 экипажей Ан-12 забайкальского 930-го втап под началом командира полка полковника В.Г. Овсянкина, из Ферганы — пять экипажей здешнего 194-го втап. «Воздушный мост» в Кандагар был организован, и в город начали прибывать Ан-12 и Ан-26. В город доставлялись боеприпасы и продовольствие, обратными рейсами вывозили остававшихся людей и имущество. Первый же рейс по эвакуации личного состава едва не стоил жизни летчикам Ан-12. Помимо штатного экипажа, на борту находился летчик-инспектор отдела боевой подготовки ВТА полковник A.M. Колбасин. Уже при заходе на посадку по транспортнику велся сильный огонь. Сесть удалось только с пятого захода, буквально подкравшись к полосе на бреющем полете. Едва началась выгрузка, как рядом стали падать мины. Один из первых же разрывов лег рядом с летчиками, сбив с ног и контузив их. Командиру экипажа осколком сбило шапку и оцарапало голову, Колбасин получил сквозное ранение в ногу. После этого стали летать в Кандагар только по ночам, однако большого облегчения это не принесло. Следующей же ночью 22 января 1989 г. в кандагарском аэропорту под обстрел попал прибывший за ранеными Ан-26. Самолет, принадлежавший 50-му полку, получил значительные повреждения и его пришлось оставить, а экипаж и пострадавших вывезли посланным за ними другим самолетом. Однако это был не последний транспортник, потерянный в афганской войне. Не прошло и недели, как в ночь с 27 на 28 января обстрелом накрыло стоявший под разгрузкой Ан-12 капитана С.Ф. Ганусевича из 930-го полка Вышло так, что им оказался тот самый самолет, который пострадал от попадания ПЗРК в декабре 1986 г., вернулся на базу в казавшейся безвыходной ситуации и после ремонта продолжал службу. У самолета с номером СССР-11987 оказалась непростая судьба: на этот раз несчастье подстерегло его на земле и уже с более тяжелыми последствиями. По счастью, никого из экипажа не задело, но поврежденная осколками машина вышла из строя. Ни поднять ее в воздух, ни ремонтировать в осажденном городе для возвращения домой уже не представлялось возможным. Пройдя всю войну, Ан-12 в последние дни не избежал-таки уготованной ему участи... Самолет оставили в Кандагаре, причем, поскольку самолет оказался брошенным в чужих руках, потребовалось составить особый акт о списании, который специальным рейсом возили на подпись начальству. Будучи оформленным 14 февраля 1989 г., в день, когда последние советские военные из оперативной группы МО СССР покидали Кабул, этот акт стал едва ли не завершающим официальным документом в истории афганской кампании, а самой машине выпало стать последним самолетом, принесенным в жертву афганской войне. В ночь на 1 февраля 1989 г. едва не дошло до потери еще одного Ан-12. Когда прилетевший самолет капитана А. Егорова сворачивал с полосы на рулежку, он попал колесами правой тележки в свежую воронку от попадания мины. Стойку слегка помяло, но хуже было то, что завалившийся набок самолет задел винтом землю и вывел из строя крайний левый двигатель. Лопасти были согнуты «в розочку», причем о замене двигателя в блокированном Кандагаре даже речь не заходила. Первой реакцией начальства было: «Самолет взорвать, самим улетать на первом же борту». Однако летчики решили не бросать практически исправный самолет, на которой некоторые из них летали всю свою летную жизнь, успев самым буквальным образом сродниться (неудивительно — иные из экипажа были младше своей машины). Следующей ночью сокращенный экипаж из четырех человек — полковник А. Колбасин за командира, капитан А Егоров в роли правого летчика, штурман и борттехник — вывели самолет на полосу. Запустив три двигателя и прикинув, что на разбеге Ан-12 будет тянуть в сторону неработающей силовой установки, его отвели к левому краю ВПП. Расчет оказался верным: самолет с трудом удалось удерживать при разбеге, и он ушел в воздух в самом конце полосы с правого ее края. Через пару часов Ан-12 приземлился в Марах. Спустя двое суток его уже вернули в строй. Возвратившие машину летчики для начала получили разнос из Москвы, Колбасину за самовольство объявили взыскание. Поостыв, начальство спустя некоторое время сменило гнев на милость и за спасение самолета наградило его от имени командующего ВТА транзисторным приемником, а от правительства — орденом «За личное мужество». За годы войны самолеты ВТА произвели в Афганистан 26900 рейсов, из них самолетами Ил-76 выполнены были 14700 самолето-вылетов, еще 12200 вылетов совершили турбовинтовые машины, включая Ан-26, Ан-22 и Ан-12. На долю последних пришлись 26% грузов и 11% числа личного состава из общего количества в 426 тысяч тонн грузов и 880 тысяч человек, переброшенных силами ВТА. Вывод авиационных частей и тыла ВВС из Баграма начался 12 января, из Кабула — 19 января 1989 г., однако в связи с продолжавшейся работой транспортников и необходимостью прикрытия аэродрома, им пришлось задержаться. Кроме того, приказом командующего 40-й армией генерал-лейтенанта Б.В. Громова силами воздушного транспорта требовалось обеспечить вывод из гарнизонов личного состава, не занятого в боевых действиях. Таковых насчитывалось около 30 тыс. человек, и их отправка домой по воздуху являлась куда более безопасной, чем передвижение в армейских колоннах по заснеженным горным дорогам. Сроки вывода войск и без того пришлось сдвинуть почти на месяц: первоначальными планами предполагалось «разгрузить» центральные гарнизоны уже в районе Нового года, однако вмешался непредвиденный «форс-мажор», которым явилось разрушительное землетрясение в Нагорном Карабахе. Для ликвидации его последствий и экстренной помощи пострадавшим потребовалось задействовать едва ли не все силы ВТА. Число работавших на Афганистан транспортников, тем не менее, сокращать было нельзя, поскольку окончательные сроки вывода войск пересмотру не подлежали, являясь принципиальным вопросом политической ответственности страны за принятые обязательства. Нагонять упущенное пришлось к концу января, в результате чего наземный эшелон ВВС 40-й армии ушел из Баграма 28 января, из Кабула — 1 февраля. Последние самолеты ВВС 40-й армии покинули Баграмскую авиабазу к 1 февраля. В Кабуле авиаторы задержались до 14 февраля, прикрывая работу «воздушного моста». Во всех случаях «крайними» машинами, улетавшими только после ухода всех прочих, являлись именно транспортники — обычным образом в ожидании техсостава и группы руководства полетами, выпускавших перелетающие домой самолеты и вертолеты, рядом оставался дежуривший Ан-12 или Ан-26. Лишь после сообщения, что самолеты благополучно приземлились на аэродроме назначения в Союзе, транспортник забирал людей и брал курс следом. В последней группе уже под утро 1 февраля Баграм покинул и полковник Перекрестов, инспектор 73-й воздушной Армии по безопасности полетов, на счету которого была не одна сотня боевых вылетов на разных типах самолетов. Последняя ночь на опустевшей базе запомнилась ему так: «Аэродром выглядел заброшенным и ничейным — вокруг ни души, только тут и там стоят машины с распахнутыми дверцами, оставленные где попало. Перед самым вылетом вспомнили, что в общежитии группы руководства полетами остался цинк патронов. Решили прихватить его и пошли через КДП. Картина там была совершенно мистическая: полностью опустевшее здание, все двери настежь, в темных комнатах продолжает работать аппаратура, мигают лампочки, индикаторы исправно мерцают, по радио слышны обрывки каких-то разговоров и, как в мрачном кино, — ни души... Все ушли с войны». Возвращающиеся части транспортными рейсами высаживались на аэродромах Ташкента, Ферганы, Мары, Карши, Кокайты и Чирчика — всех, способных принять массу войск и техники. Отнюдь не везде «воинов-интернационалистов» ожидал теплый прием — радушные сцены в стиле «Страна встречает свих героев» оставались темой телепрограмм, а на местах пограничный режим послаблений не предусматривал, да и таможенная служба свое дело не упускала. Ту же крайнюю группу старших офицеров и техсостава, прибывших из Баграма, дома ждал прием со всей уставной строгостью: «Прилетели под утро, еще не рассвело. Хотели было выйти из самолета размяться, покурить, ан нет — не шибко приветливая «граница» буквально штыками и прикладами загнала нас обратно в транспортник, ждать проверки. Так и мерзли в грузовой кабине, пока те не прибыли и начался просмотр документов и вещей. Что уж они искали, не знаю, но тот самый ничейный ящик патронов почему-то никого не привлек и остался при нас». В числе прочих покинул Афганистан и 50-й осап. «Полтинник» поначалу вывели на аэродром Мары, а затем разместили в Белоруссии, где часть благополучно пребывает и поныне, имея сегодня статус 50-й транспортной ордена Красной Звезды авиабазы ВВС Республики Беларусь. Войсковая группировка оставалась на территории ТуркВО еще полтора месяца — никто не мог поручиться, в какую сторону повернет война. Наготове дежурила и транспортная авиация, хотя в этот период советские поставки вооружения, боеприпасов и специмущества были приостановлены. При уходе советских войск в распоряжении афганцев на основных базах были оставлены трехмесячные запасы боеприпасов, завозившиеся с участием той же ВТА. Хватило их ненадолго — уже в первой декаде марта президент Наджибулла воззвал о срочном возобновлении поставок, спекулируя перед советским руководством тем, что «мы можем потерять Афганистан». Такая расточительность при обеспечении дармовых поставок была предопределена. Общий объем советской помощи по всем позициям, от продовольствия и топлива до хозяйственных товаров, посуды и даже мебели, также числившейся в заявках Кабула, достиг поистине астрономических цифр — за те 10 месяцев, пока шел вывод войск, в распоряжение афганцев, по признанию главы правительства С. Кештманда, были доставлены более полумиллиона тонн всевозможных грузов. Учитывая, что местом назначения почти всего этого потока был Кабул, на каждою его взрослого жителя пришлось больше полутора тонн советской помощи. Боеприпасами и топливом нужды Кабула не ограничивались: не считая прочего, одной только соли на складах для поставки Афганистану в ноябре 1988 г. насчитывалось почти 5000 т, мыла — 1400 т, чая — 506 т.  Стоянка транспортников афганского 373-го авиаполка Панорама кабульского аэропорта. Май 1988 г Направленный в Афганистан в качестве начальника опергруппы МО СССР генерал-лейтенант М.А. Гареев так описывал свои впечатления от прибытия в Кабул 6 февраля 1989 г.: «С бывалым опытным экипажем ВВС Туркестанского военного округа поздно ночью добрались до Кабула. Как всегда при посадке на Кабульском аэродроме, самолет сделал несколько кругов с тем, чтобы произвести постепенное снижение в горных условиях местности. И хорошо было видно, как в разных местах шла стрельба и трассирующие пули устремлялись вверх. Создавалось впечатление, что в городе идут бои. Но это была обычная стрельба вверх многочисленных часовых и сторожевых застав, охраняющих Кабул. С этой постоянной беспорядочной стрельбой с расходом большого количества боеприпасов пытались безуспешно бороться, но в конечном счете пришлось ко всему этому привыкнуть». Уже 12 марта 1989 г. на заседании Политбюро ЦК КПСС было принято решение о возобновлении поставок оружия Кабулу. Помимо выделения материальных средств, Минобороны поручалось обеспечить их доставку организацией автоколонн и привлечением сил ВТА. Тем самым оказалось, что с окончанием афганской войны эпопея транспортной авиации отнюдь не завершилась, более того — для снабжения Афганистана потребовалось привлечь дополнительные силы, организовав группировку из двух десятков самолетов ВТА, размещавшихся на аэродромах Ташкента, Ферганы и Карши. Здешние аэродромы соседствовали с крупными узловыми станциями Среднеазиатской железной дороги, что обеспечивало бесперебойный и своевременный подвоз грузов, предназначавшихся для переброски в Афганистан. Что касается объемов транспортных перевозок, то поток грузов нисколько не упал после ухода 40-й армии из Афганистана. Более того: поставки афганцам по многим позициям существенно возросли, будучи своего рода восполнением отсутствия советских войск. К примеру, если для нужд ВВС 40-й армии в 1987 г. были доставлены 113 тыс. авиабомб, то афганцам в 1989 г. было отгружено ровно столько же — 112 тыс. авиабомб. В числе прочего в марте 1989 г. в Кабул были срочно доставлены 1000 штук огнеметов «Шмель». Для обороны столицы, где имелся лишь один дивизион «Градов», были предоставлены ракетные установки Р-300, «Луна-М», системы залпового огня большой мощности «Смерч» и «Ураган», дальность действия которых позволяла сдерживать противника на безопасном удалении от столицы. Правда, по всей видимости, ни высшее политическое руководство, ни генералы-советники не принимали во внимание, что эти системы ракетного оружия при их ограниченных точностных возможностях годятся разве что для поражения крупных площадных объектов — скоплений противника и его баз, в самой малой мере удовлетворяя задачам противопартизанской войны, где подобные цели просто-напросто отсутствовали. Впрочем, о какой-то результативности, похоже, речь и не шла — афганцев больше привлекала сама значимость обладания внушительно выглядящим оружием и зрелищность ракетных пусков с уносящимися вдаль со шлейфом огня тяжелыми ракетами, которым рукоплескали и радовались, словно дети. Больше того, на ракетные комплексы претендовали даже племенные формирования, соглашавшиеся выступить на стороне властей и заинтересованные в превосходстве над соседями. Вторил им и М.С. Горбачев, в письме в адрес афганского президента от 11 декабря 1989 г. указывавший на «большое значение, какое имеют, несомненно, ответные ракетные удары». Так или иначе, но заявки на поставку тяжелых ракет звучали постоянно, ежемесячно составляя несколько десятков штук. Ракеты перебрасывали по воздуху, назначая дополнительные рейсы транспортных самолетов. Для перевозки ракеты шли расстыковыванными, отдельно доставлялся корпус на специальных ложементах и боевая часть в своей упаковке. Основной объем работ по перевозкам выполнялся большегрузными Ил-76, но и для Ан-12 хватало заданий. Работа «воздушного моста» продолжалась еще целых три года, позволив Кабулу если и не рассчитывать на контроль положения в стране, то хотя бы обозначать присутствие государственной власти. В провинциях ситуация складывалась по-разному, держась где на присутствии армии, а где и на умении местных руководителей договориться с оппозицией. Тот же кандагарский генерал-губернатор Олюми удерживал равновесие в провинции и кнутом, и пряником, посылая к местным полевым командирам их родственников, которые уговорами должны были сдерживать моджахедов от нападений; согласие противника покупалось мздой, а то и боеприпасами, моджахедам разрешалось посещать родню в городе, правда, с условием оставлять оружие на КПП у городской черты. Боевые действия наиболее интенсивно разворачивались у Кабула, Джелалабада и Хоста, требуя постоянного обеспечения советской военной помощью. Помимо прочих грузов, приходилось доставлять грузовые парашютные системы и платформы для беспосадочного десантирования грузов. Они требовались для снабжения блокированных мятежниками гарнизонов, куда иным путем доставку осуществить было невозможно. Занимались этим афганские экипажи, причем из осажденного Хоста использованные парашюты даже ухитрялись вывозить вертолетами и самолетами Ан-26 для повторного применения. Запасы их, правда, были быстро исчерпаны — грех было рассчитывать, что парашютное полотно тут же не начнут растаскивать на бытовые нужды все имевшие к нему доступ. Внутренними перевозками грузов и личного состава по аэродромам и гарнизонам, где уже не было советской транспортной авиации, занимались самолеты и вертолеты правительственных сил. Для поддержания афганских ВВС им была передана эскадрилья Ан-12 с десятком самолетов. Разместили их на Кабульском аэродроме, ставшем настоящей перевалочной базой, где разгружались прибывавшие советские транспортники. Ан-12 стали наиболее мощной и «представительной» техникой афганской транспортной авиации, остальную часть ее парка составляли Ан-26 и Ан-32. Самолеты были не новыми, как-никак, выпуск машин этого типа завершилась почти двадцать лет назад. Все они принадлежали к варианту Ан-12БП и перед сдачей афганцам прошли текущие регламентные работы, обеспечившие необходимый запас «работоспособности». Поначалу предлагалось решить вопрос наиболее простым и скорым образом, передав афганцам самолеты из 50-го полка и баграмской транспортной эскадрильи. Однако такому решению препятствовал порядочный износ техники с буквально выбитым ресурсом, для восстановления которого та нуждалась в капитально-восстановительном ремонте и по возвращении домой тут же отправлялась на авиационные ремонтные предприятия. Пришлось собирать транспортники по частям ВТА в Союзе и перегонять в Кабул. По всей видимости, по этой причине предназначавшиеся для афганцев самолеты, не работавшие здесь прежде, не были укомплектованы кассетами тепловых ловушек и эту «забывчивость» исправили лишь позже, произведя необходимые доработки. Летчиков для них готовили в Ферганском учебном центре. В каких условиях проходили полеты в блокированные гарнизоны, рассказал генерал М.А. Гареев, в сентябре 1988 г. побывавший с инспекцией в Хосте: «До предела сузилось кольцо обороны и войска, находившиеся в низине, занимали крайне невыгодное положение. Город и, особенно, аэродром со всех направлений простреливались артиллерийским огнем. При заходе на посадку мы уже видели, как в направлении нашего самолета в воздухе летят трассирующие пули и снаряды и посадочная полоса покрыта разрывами реактивных снарядов. Уклониться от них, казалось, не было никакой возможности. Но летчики, маневрируя на посадочной полосе, уже приближались к укрытиям, подготовленным для людей в конце аэродрома. В это время впереди разорвался снаряд и самолет врезался в образовавшуюся воронку. Было видно, как многие осколки изрешетили корпус самолета, но каким-то чудом никто не пострадал, если не считать довольно сильных ушибов, которые были получены при резком торможении самолета и преодолении воронки от реактивного снаряда. Мы быстро добежали до укрытия, а экипажу самолета, прежде чем улететь обратно, надо было еще под огнем противника грузить раненых и больных, отработанные парашютные системы и только после этого взлетать. Этим летчикам давали дополнительную оплату за каждый вылет в Хост, но независимо ни от чего, каждый их полет был подвигом». Предпринимались даже попытки использовать транспортную авиацию в качестве бомбардировщиков. То ли кто-то из афганцев прослышал, что транспортники могут нести бомбовое вооружение (да еще какое — Ан-12 мог взять на борт без малого полсотни бомб), то ли эта идея пришла в голову кому-то из советников, увлеченных идеей использовать «все силы и средства», однако предложение использовать транспортники для ковровых бомбардировок в окрестностях Кабула не заставило себя ждать. Бомбометанием по площадям предполагали накрывать места возможного расположения огневых средств противника для обеспечения безопасности столицы, что было последовательным продолжением тенденции — и без того уже в донесениях вошли в оборот данные не только и не столько о предположительно уничтоженных ракетных и минометных позициях душманов, сколько о количестве гектаров в округе, обработанных артиллерией и системами залпового огня стрельбой по квадратам. Десятки и сотни тонн бомб, выкатываемых на окрестности, явились бы логичным развитием этого курса. Но это предложение было отвергнуто. Тут просматривалась очевидная параллель с опытом американцев во вьетнамской войне, где те, будучи побогаче, могли себе позволить осуществление задач непрерывным наращиванием количества расходуемых боеприпасов, накрывая целые районы ковровым бомбометанием и кося джунгли огнем «ганшипов» в расчете на то, что какая-нибудь бомба или снаряд найдут-таки свою цель. Действуя с привычным размахом, американцы засыпали джунгли, селения, промышленные и военные объекты поистине безумным количеством боеприпасов, намереваясь подавить огневым валом всякое сопротивление. По численности задействованных авиационных сил и расходу авиационных средств поражения вьетнамская кампания выглядела абсолютно несопоставимой с Афганистаном: достаточно сказать, что в разгар боевых действий авиация США расходовала до 120 тыс. т бомб ежемесячно (!) — вдвое-втрое больше того количества, которое получали ВВС 40-й армии на целый год даже в периоды наибольшего боевого напряжения. В конкретных цифрах разница выглядела еще более внушительно: в 1968 г. авиация США с участием сил ВВС, авиации ВМС и корпуса морской пехоты сбросила на объекты в Юго-Восточной Азии 1431654 т бомб, в 1969 г. - 1387237 т бомб. У нас в ходе афганской войны наибольший расход бомбардировочных средств поражения, достигнутый в 1988 г. авиацией 40-й армии, составил 129 тыс. штук, в основном, калибров 100 и 250 кг, составляя в тоннаже разницу в несколько порядков. Афганские Ан-12БП на стоянке кабульского аэродрома. Как видно, транспортники не несут блоков тепловых ловушек. Май 1988 г Опыт американцев по использованию авиации в локальных войнах изучался и анализировался нашими специалистами. Обратили внимание и на практику применения «ганшипов» — транспортных самолетов, напичканных пулеметно-артиллерийским вооружением и используемых в тактике «огневого вала» в непосредственной авиационной поддержке, в борьбе с живой силой и транспортом противника — теми же целями, что и в Афганистане. При обсуждении перспектив такого средства в Военно-Воздушной Инженерной Академии им. Жуковского все прикидки специалистов по вооружению были опровергнуты одним и весьма весомым доводом — «потребуется такой расход боеприпасов, что мы его просто не прокормим!». В этом не было никакого преувеличения или недостаточной самооценки возможностей нашей «оборонки»: пушки и пулеметы самолета класса АС-130 «Геркулес» выстреливали больше 10000 патронов в минуту, тогда как на всю авиацию 40-й армии на год считалось достаточным выделять 1000-1200 тыс. патронов (а в иные годы и меньше), и весь этот запас один только «ганшип» расстрелял бы за пару часов работы, если бы его стволы могли работать безостановочно. Помимо боеприпасов и прочего снабжения, советской стороне приходилось периодически восполнять также потери авиатехники афганцами. Как и прежде, основной причиной являлись отнюдь не боевые потери, а «естественная убыль» в летных происшествиях по вине халатности, недисциплинированности и многочисленных ошибок афганских пилотов. Только за первую половину 1989 г. афганские ВВС потеряли около 60 самолетов и вертолетов, к концу года их число составило 109 единиц, в том числе 19 транспортных самолетов. Свидетель одной такой аварии в Баграме в ноябре 1988 г. рассказывал: «Среди бела дня летчик афганского Ан-32 ухитрился развалить новенький и совершенно исправный самолет. Камуфлированный, что твоя ящерица, «антонов» промазал мимо полосы, так что посадка пришлась на буераки и колдобины «грунтовки». На подвернувшемся ухабе он тут же снес себе переднюю стойку, ткнулся носом в землю и продолжал пахать полосу с задранным хвостом, расшвыривая песок и камни. Ему еще здорово повезло — несся прямо на пост радистов, но зарылся в землю и остановился в какой-то полусотне метров. Летчики вылезли и ушли себе. Полет окончен. А самолет так и остался стоять в непотребном виде с торчащим в небо хвостом. Тут же очередной «героический экипаж» (был у них такой титул в ВВС) едва не угробил свой Ан-26. Зрелище было хоть куда: ночь, Ан-26 заходит на посадку, но не вписывается и уходит на второй круг. То ли борттехник, то ли второй пилот убирает шасси, командир этого не замечает. Пребывая в уверенности, что на борту все в порядке, летчик аккуратно сажает самолет на брюхо. Кассеты с ловушками висят у Ан-26 под фюзеляжем, так что садится он прямо на них. Чиркает кассетами по бетону, они загораются и начинается грандиозный фейерверк на весь аэродром — ловушки палят залпами, со свистом летят во все стороны, народ бежит кто куда. Патронов там аж четыре сотни, так что салют получился — будь здоров. Всю ночь с вилами и лопатами убирают потом этот Ан-26 с полосы. Опять же повезло — сел он точнехонько на «ровный киль», даже винты не помял, обошлось сгоревшими кассетами и поцарапанным брюхом, так что ушел он через несколько дней своим ходом».  Последствия аварийной посадки афганского Ан-32. Транспортник сел мимо полосы и сломал переднюю стойку шасси. Баграм, ноябрь 1988 г По мере ухудшения положения дел росла неуверенность в успехе. Добавилась еще одна напасть — «негативные настроения летного и технического состава», не питавшего никаких иллюзий на случай падения власти; по этой причине правительственная авиация лишилась семи единиц авиатехники, на которых их экипажи, рассудив, что хуже уже не будет, перелетели в Пакистан (годом раньше таковых было четыре). Опасения одолевали не только рядовых летчиков — неуверенность в завтрашнем дне испытывали и некоторые высшие сановники. Хотя президент Наджибулла и министр обороны Шах Наваз Танай были земляками из округа Хост, личные амбиции и противоречивые воззрения привели к обострению отношений. Танай был недоволен сосредоточением власти в руках президента, в свою очередь, тот подозревал министра в оппозиционных настроениях и недостаточной активности в руководстве армией. Интриги и взаимные обиды привели к попытке решить дело силой. Министр обороны устроил 6 марта 1990 г. попытку государственного переворота, организовав мятеж в столице. Как всегда в афганских междоусобицах, не обошлось без применения авиации. Танай и его окружение ввели в Кабул бронетехнику и подняли в воздух самолеты с Баграмской авиабазы, которые нанесли бомбоштурмовые удары по президентскому дворцу и правительственным учреждениям. Однако силы мятежников в городе были блокированы, а часть летчиков, решив от добра добра не искать, осталась на стороне президента, уклоняясь от участия в бомбардировках и перелетая на другие аэродромы. Дальше — больше: по приказу президента Баграм подвергся ракетному обстрелу, накрывшему стоянку, склады боепитания и взлетную полосу. Одним только дивизионом «Ураганов» по аэродрому было выпущено 200 тяжелых снарядов. «Дружественный огонь» был необычайно успешным: ракетные залпы вывели из строя 46 самолетов, 12 из них — безвозвратно, на складах взлетели на воздух более 1000 авиабомб. На том мятеж и закончился. На счастье, стрельба осколочными снарядами не нанесла практически никаких повреждений ВПП, предоставив верхушке мятежников возможность бежать на самолете. Танай с семьей и ближайшим окружением воспользовался одним из находившихся в Баграме Ан-12, перелетев на нем в Пакистан, где вскоре присоединился к оппозиции. Ущерб одной только правительственной авиации в результате последствий мятежа оценивался в 50 млн. рублей, что потребовало новых крупных советских поставок для восполнения потерь. Поток вооружений, техники и прочих ресурсов продолжал идти в Афганистан до самого конца 1991 г., причем полеты самолетов ВТА не прекращались и с формальным распадом Советского Союза (похоже было, что дело с поддержкой «союзника» катилось словно по инерции, сохраняя верность обязательствам уже пропавшей собственной страны). Официальным образом конец им положила достигнутая СССР и США договоренность об одновременном прекращении военных поставок конфликтующим сторонам в Афганистане с целью достижения политического урегулирования. В апреле 1992 г. афганскую армию покинули последние военные советники теперь уже бывшего Минобороны СССР. Их миссия была прекращена по настоянию самих афганцев, прекрасно видевших, что власть доживает свои последние дни. Для их отправки 13 апреля понадобилось организовать специальный рейс самолета на родину во избежание вполне предвидимых препятствий — слишком многие не прочь были задержать их пребывание в качестве своего рода «живого щита», поскольку подступавший к Кабулу Ахмад Шах обещал русских не трогать. Разброд и разложение в правительственной армии сопровождались ростом пораженческих настроений и поиском виноватых. В предвидении близкого краха режима многие военные в поисках оправданий дистанцировались от тех, кто, по их мнению, нес наибольшую ответственность за участие в междоусобной войне и многочисленные жертвы. К таковым причислялось ближайшее окружение президента и госбезопасность, а также ракетчики и летчики, причинявшие наибольшие потери и ущерб противной стороне. Неприязнь к вчерашним товарищам по оружию подогревалась еще и тем, что эти категории военнослужащих выглядели относительно привилегированными и жили более-менее сносно на своих защищенных базах, вдали от передовых позиций — как-никак, летчики и в самом деле имели дело с противником с изрядной высоты и пыль глотать им действительно не приходилось. Правда, лидеры оппозиции имели на авиацию свои виды: имея возможность оценить ее эффективность и значимость, авиаторам обещали покровительство и защиту при переходе на сторону новых хозяев. Так оно и случилось: к середине апреля силы Ахмад Шаха без особых трудностей заняли Баграмскую авиабазу, получив в свое распоряжение целехонькими 60 одних только боевых самолетов МиГ-21 и Су-22М4. В руки полевых командиров Масуда попали также пусковые установки ракет Р-300. Боевую авиацию и ракеты лидер моджахедов собирался пустить в дело при штурме Кабула, но правительственные войска и не думали сопротивляться, а основной проблемой стало сдерживание прочих чересчур ретивых душманских группировок, нацелившихся пограбить столицу. Для защиты Кабула от откровенно бандитских группировок потребовалось прибегнуть к помощи сил генерала Абдул Рашида Дустума, распоряжавшегося в северных провинциях страны. Командир тамошней 53-й пехотной дивизии, племенного соединения, набранного в основном из местных узбеков, быстрее других сориентировался в меняющейся обстановке. Заключив союз с новой властью, он оперативно обеспечил переброску 4000 своих бойцов, отправленных из Мазари-Шарифа в столицу транспортной авиацией. В Кабуле воцарились новые хозяева, но ситуация была окончательно расшатана. Рознь в стане оппозиции в считанные дни привела к вооруженной междоусобице с применением авиации, артиллерии и бронетехники вчерашних армейских частей, примкнувшим к тем или иным исламским формированиям. Иначе и не могло быть в стране, который год охваченной гражданской войной, где выросло уже целое поколение, с малых лет привычное к военному ремеслу... Афганская авиация также оказалась раздерганной между «борцами за правое дело» самого разного толка (лишь бы у тех на подконтрольной территории имелся хоть какой-нибудь аэродром). Принадлежность самолетов и самих авиаторов определялась все больше личными отношениями с вожаками разнообразных формирований новых властей, испокон веков чтимыми родственными связями и привычкой к обжитому месту. Транспортная авиация находилась в особом фаворе как вещь практичная и полезная для личных перевозок и того же снабжения — в конце концов, зачем было воевать, если не разжиться малой толикой прежде недоступных благ? Тот же генерал Дустум, чьи основные силы располагались в северных районах, откуда выбраться к центру было непростой задачей, свое присутствие в столице обеспечивал почти исключительно воздушным путем. Под стать принадлежности различались и новые опознавательные знаки на самолетах — кое-где ограничивались устранением на прежней кокарде не пришедшейся ко двору революционной красной звезды, другие шли дальше и восстанавливали «дореволюционные» знаки с арабскими письменами. Сплошь и рядом на самолетах новые знаки соседствовали с прежними обозначениями «народно-демократических» времен, особенно на крыльях транспортников, где их неудобно было перекрашивать из-за высокого расположения. Обстановка в стране продолжала оставаться крайне неблагоприятной: враждующие группировки продолжали выяснять отношения и перетягивать на себя власть, периодически подвергая обстрелам города и базы чужой стороны. Обычным образом при этом доставалось и аэродромам, где самолеты выглядели заметной и легкоуязвимой целью. Одним из таких аэродромов являлся Мазари-Шариф, находившийся под контролем войск т.н. Северного альянса, возглавляемого генералом Дустумом и Ахмад Шахом. В числе прочей техники сюда перегнали и несколько Ан-12, выполнявших перевозки в интересах хозяев альянса. При полетах в Кабул, из-за то и дело вспыхивавших обострений, там старались не задерживаться, улетая на ночь в соседнюю Индию или Узбекистан. Очередной огневой налет на Кабульский аэродром под вечер 16 февраля 1993 г. пришелся как раз тогда, когда там под погрузкой стоял один из дустумовских Ан-12БП. Самолет должен был выполнить рейс из Кабула в Мазари-Шариф, доставив туда отряд ополченцев племенных военных формирований, членов их семей и пару автомашин. Погрузку прервали разрывы снарядов вблизи стоянки. Командир экипажа, 41-летний выпускник Фрунзенского авиатехнического училища, принял решение немедленно взлетать, не дожидаясь окончания загрузки и не тратя лишнего времени на предстартовую проверку систем самолета. В спешке и суете его даже не заправили топливом. На борт в панике успели набиться больше сотни человек, большую часть которых составляли вооруженные дустумовские бойцы. Не зажигая бортовых огней, под непрекращающимся обстрелом, Ан-12 вырулил к полосе и пошел на взлет. Уйдя из-под огня и набрав высоту, самолет взял курс на Мазари-Шариф. В воздухе выяснилось, что из всего навигационного и связного оборудования на борту нормально работает только командная радиостанция РСБ-5. Впрочем, привычный ко всему экипаж уже приноровился обходиться без излишеств и такое состояние дел было почти нормой. Направляясь на север, самолет перевалил горную гряду Гиндукуша и через 40 минут был у цели. Аэродром встретил их полным затемнением, не работали ни приводные маяки, ни радиосвязь, не говоря уже о напрочь не функционирующей светотехнике. «Якуб» (позывной Мазари-Шарифа) упорно не отвечал, и самолет кружил над городом, не рискуя снижаться — рядом высились горы, достигавшие трехкилометровой высоты. В баках оставалось топлива «на донышке», а рассмотреть полосу никак не удавалось. Когда в кабине высветилась сигнализация аварийного остатка, экипажу оставалось только спешно подыскивать любое сколько-нибудь подходящее место для посадки.  Афганский Ан-125П на месте аварийной посадки у Термеза. Узбекистан, 16 февраля 1993 г  При аварийной посадке на пахоту самолет подломил левую стойку шасси и вывернул задевший о землю крайний левый двигатель вместе с моторамой Командир решил повернуть к ближайшему по карте аэродрому, которым оказался Термез в Узбекистане. Узнав об этом, в кабину принялись ломиться пассажиры с автоматами, желавшие во что бы то ни стало попасть домой и требовавшие садится в песках у Мазари-Шарифа. Отбившись от них и растолковав, что ночная посадка в каменистой пустыне неминуемо закончится катастрофой, экипаж потянул самолет на север. До Термеза, лежавшего у самой границы, было всего 60 км и топлива, пусть едва-едва, должно было хватить. Даже без радиосвязи летчикам удалось выйти на город, освещенный и приметный, но отыскать аэродром не удавалось и тут. Никто из афганцев прежде в Термез не летал, предупредить о себе у них не было возможности, «гостей» на аэродроме не ждали и полоса не была высвечена огнями и прожекторами. На третьем круге афганцам повезло: они заметили в небе проблесковый огонь набиравшего высоту самолета (им был недавно взлетевший Ан-26). Сообразив, что аэродром находится где-то рядом, они повернули в сторону маяка. Вскоре впереди слева летчики разглядели бетонку и на последних литрах керосина стали подтягивать на посадочную глиссаду. Уже были выпущены закрылки и шасси, когда одновременно заглохли все четыре двигателя — кончилось топливо. Автоматически зафлюгировались винты и тяжелая машина круто пошла вниз. Высоты уже не было, но командир в доли секунды принял единственно правильное решение: отвернуть от редких огней по курсу, где можно было напороться на фонарные столбы или строения и садиться на неосвещенный участок, надеясь, что скрытая во мраке земля окажется ровной. Удача в этот день была на стороне афганцев: самолет пронесся над высокой железнодорожной насыпью, едва не снёс об нее шасси, чудом не врезался в столбы линии электропередач, лишь задев один из них крылом и разрубив себе консоль. Намотав на торчащие лопасти винтов оборванные провода и волоча за собой несколько выдернутых столбов, Ан-12БП коснулся вспаханного поля. Зарываясь в пахоту, он проложил стометровую колею, увяз колесами по самые оси и, подломив левую основную стойку, коснулся крылом земли, развернулся на месте и замер. Треснувшие шпангоуты не выдержали, и отломившаяся тележка легла рядом с самолетом. Смята была законцовка левого крыла (на нее пришелся удар о столб), бороздившие землю лопасти винта вывернули вниз первый двигатель вместе с моторамой. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал. К счастью, из-за спешного взлета на борт не успели погрузить автомашины: если бы при ударе они сорвались и тараном полетели вперед, в грузовой кабине мало бы кто уцелел.  При ночной посадке транспортник снес линию связи, утащив за собой провода и несколько столбов. На Ан-12 любопытным образом сочетаются опознавательные знаки прежнего «революционного» образца на крыле и новые «исламские» с арабской вязью на киле  Обломки Ан-12 на окраине Кабульского аэродрома Внезапно прервавшийся гул самолета в ночном небе и почти беззвучная посадка не привлекли ничьего внимания. Не заметили его и в аэропорту, до которого оставалось всего полкилометра. Выбравшись из самолета, командир вышел на дорогу, остановил проезжавший «Москвич» и на нем добрался до аэродрома. Хорошее владение русским языком едва не подвело летчика: его долго не хотела пускать через проходную охрана, принимая за одного из своих пилотов и советуя «прийти утром, как все, к началу рабочего дня». Разобравшись, поутру к месту посадки прибыли представители местного управления гражданской авиации, ВВС и компетентных органов. Их глазам предстал завалившийся на крыло Ан-12БП, вокруг которого бродили бородачи с автоматами. Как оказалось, на борту находились восемь членов экипажа и 109 пассажиров. Всех пассажиров тут же автобусами вывезли к границе и отправили на свою территорию. Экипаж задержался на время расследования происшествия и через несколько дней был вывезен прилетевшим за своими летчиками хозяином северных провинций Афганистана генерал-полковником Дустумом. С воцарением в Афганистане талибов, часть авиации успела перелететь в незанятые районы. Другие летчики остались при привычной работе, благо радикальные исламисты, искоренявшие чуждые традиционному укладу излишки цивилизации в виде радио, телевизоров и прочих бесовских выдумок, авиацию тоже ценили и сделали для такой полезной вещи исключение. Сохранена была авиакомпания «Ариана», в которой имелась пара Ан-12. Впрочем, жизнь этих машин на службе Талибана была недолгой и обе они были уничтожены в аэропорту Кабула в октябре 2001 г. американскими бомбардировками в ходе операции «Несокрушимая свобода». Еще один Ан-12 использовался талибанской милицией и был разбит при катастрофе у пакистанского аэродрома Кветта 13 января 1998 г. После изгнания талибов парк афганской авиатехники пополнился еще несколькими Ан-12, разнообразными путями полученных из республик бывшего СССР. 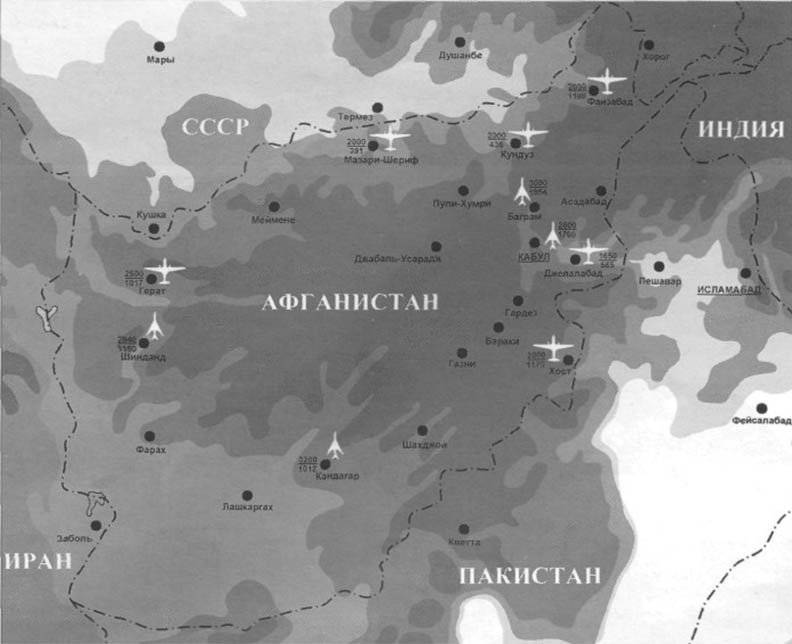 Аэродромы Афганистана, обеспечивавшие базирование боевой и транспортной авиации. В характеристике указаны длина ВПП и превышение над уровнем моря Ан-12БК из 111-го авиаполка управления ТуркВО. Как и на многих самолетах ВТА, выполнявших рейсы в Афганистан, поверх закрашенных звезд были нанесены обозначения «Аэрофлота». Осень 1988 года Ан-12Б из афганского 373-го тап. В ходе смены власти в Афганистане на машине поменялись и опознавательные знаки, причем на крыле они оставались прежнего образца. Самолет потерпел аварию под Термезом в результате навигационной ошибки в феврале 1993 года[/CENTER] Автор Виктор Марковский
|
|
|
|
|
#16 |
|
|
Истребители-бомбардировщики Су-17 в Афганистане
«Ограниченный контингент советских войск» введенный в Афганистан 25 декабря 1979 г. (знаменитая позднее Сороковая армия), практически сразу был усилен вертолетными частями и истребителями-бомбардировщиками 49-й воздушной армии (ВА) с баз ТуркВО. Как и вся операция по «оказанию интернациональной помощи афганскому народу», переброска авиатехники и людей проходила в условиях строгой секретности. Задача - перелететь на аэродромы Афганистана и перебросить туда все необходимое имущество - была поставлена перед летчиками и техниками буквально в последний день. "Опередить американцев» - именно эта легенда позднее с упорством отстаивалась для объяснения причин ввода частей Советской армии в соседнюю страну. Первым в ДРА перебазировался авиаполк истребителей-бомбардировщиков из Кзыл-Арвата, вооруженный Су-17 и Су-17М. Местом базирования выбрал и аэродром Шинданд, там же разместили и отдельную вертолетную эскадрилью. При перебазировании никаких технических проблем не возникло - после получасового ночного перелета первая группа Ан-12, доставившая технические экипажи и необходимые средства наземного обслуживания, приземлилась в Афганистане, следом были переброшены Су-17. Поспешность и неразбериха дали себя знать - никто не мог с уверенностью сказать, как встретит их незнакомая страна, в чьих руках находится аэродром, и что ждет на «новом месте службы». Условия Афганистана оказались далекими от комфортных и мало напоминали привычные аэродромы и полигоны. Как гласила ориентировка Генштаба, «по характеру местности Афганистан - один из самых неблагоприятных для действий авиации районов». Впрочем, действиям авиации не благоприятствовал и климат. Зимой тридцатиградусные морозы внезапно сменялись затяжными дождями и слякотью, часто задувал «афганец» и налетали пыльные бури, снижавши видимость до 200-300 м и делавшие полеты невозможными. Еще хуже приходилось летом когда температура воздуха поднималась до +52° С, а обшивка самолетов под палящим солнцем накалялась до +80° С. Постоянная иссушающая жара, не спадавшая и ночью, однообразное питание и отсутствие условий для отдыха изматывали людей. Аэродромов, пригодных для базирование современных боевых самолетов, было всего пять - Кабул, Баграм, Шинданд, Джелалабад и Кандагар Они располагались на высоте 1500 - 2500 м на; уровнем моря. Одобрения на них заслуживали только отличного качества ВПП, особенно «бетонки» Джелалабада и Баграма. Все остальное, необходимое для обустройства, оборудования стоянок и обеспечения полетов - от продовольствия и постельного белья до запчастей и боеприпасов - пришлось доставлять из СССР. Сеть дорог была развита слабо, железнодорожного и водного транспорта попросту » существовало, и вся нагрузка легла на транспортную авиацию. В марте-апреле 1980 г. начались боевые действия армии ДРА и советских войск против группировок, не желавших примириться с навязанной стране «социалистической ориентацией». Специфика местных условий сразу же потребовала широкого применения авиации, которая могла бы обеспечить проведение планируемых операций, поддерживая действия наземных войск и нанося удары по труднодоступным местам. В целях повышения координации и оперативности действий авиачасти, расположенные в ДРА, были подчинены находящемуся в Кабуле командованию 40-й армии, при котором находился командный пункт (КП )ВВС. Су-17М4 на Баграмском аэродроме. Под крылом — разовые бомбовые кассеты РБК-500-375 с осколочным снаряжением. На фюзеляже - кассеты с тепловыми ловушками Поначалу противником являлись разрозненные, малочисленные и слабо вооруженные группировки, не представлявшие практической опасности для боевых самолетов. Поэтому тактика была довольно простой - по обнаруженным вооруженным группам наносились удары бомбами и неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с малых высот (для большей точности), а основная трудность состояла в сложности ориентировки на однообразной горно-пустынной местности. Случалось, что летчики по возвращении не могли точно указать на карте, где они сбросили бомбы. Другой проблемой стало само пилотирование в горах, высота которых в Афганистане достигает 3500 м. Обилие естественных укрытий - скал, пещер и растительности - заставляло при поиске целей снижаться до 600 - 800 метров. Кроме того, горы затрудняли радиосвязь и усложняли руководство полетами. Изнуряющие климатические условия и напряженная боевая работа привели к росту количества ошибок в технике пилотирования и нарушений при подготовке самолетов, да и средний возраст летчиков «первого заезда» не превышал 25-26 лет. Нелегко приходилось и технике. Жара и высокогорье «съедали» тягу двигателей, вызывали перегрев и отказы оборудования (особенно часто выходили из строя прицелы АСП-17), пыль забивала фильтры и портила смазку самолетных узлов. Ухудшались взлетно-посадочные характеристики, возрастал расход топлива, снижались потолок и боевая нагрузка. Разбег Су-17 и при нормальном взлетном весе возрастал в полтора раза! При посадках перегревались и выходили из строя тормоза колес, «горела» резина пневматиков. Работа автоматического прицела при бомбометании и пуске ракет в горах была ненадежной, поэтому зачастую приходилось применять оружие в ручном режиме. Риск столкновения с горой при атаке или выходе из нее требовал выполнения особых маневров, например, горки с заходом на цель и сбросом бомб с высоты 1600 - 1800 м. НАР С-5 применялись с дальности около 1500 м, что приводило к значительному рассеиванию и в сочетании со слабой боевой частью делало их малоэффективным средством. Поэтому в дальнейшем С-5 применялись только против слабозащищенных целей на открытой местности. В борьбе с укреплениями и огневыми точками хорошо себя проявили тяжелые НАР С-24, имевшие повышенную точность и более мощную боевую часть весом 25,5 кг. Подвесные пушечные контейнеры УПК-23-250 оказались практически неприемлемы для Су-17 - для них не было подходящих целей, да и двух встроенных 30-мм пушек НР-30 было достаточно. Так же не пригодились и СППУ-22 с подвижными пушками - местность мало подходила для их применения, а сложность устройства обусловила чрезмерные затраты времени на обслуживание. Требование оперативности боевых вылетов, проблемы со снабжением и сложные местные условия быстро определили основные направления при подготовке авиатехники: быстроту и максимальную упрощенность снаряжения, требующего как можно меньших затрат времени и сил. Боевые действия быстро приобрели широкомасштабный характер. Попытки правительства «навести порядок» приводили лишь к растущему сопротивлению, а бомбовые удары отнюдь не вызывали у населения уважения к «народной власти». Кзыл-Арватский полк через год сменили Су-17 из Чирчика, а затем в Афганистан перелетел полк из Мары. Впоследствии по решению Главного штаба ВВС через ДРА должны были пройти и другие полки истребительной, истребительно-бомбардировочной и фронтовой бомбардировочной авиации для приобретения боевого опыта, выработки навыков самостоятельных действий и, не в последнюю очередь, выявления в боевой обстановке способностей личного состава. Проверке подвергалась и техника, в напряженной эксплуатации наиболее полно раскрывавшая свои возможности и недостатки. Для проведения операций в удаленных районах Су-17 из Шинданда перебрасывались на авиабазы Баграм под Кабулом и Кандагар на юге страны. Базирования в Джелалабаде старались избегать, поскольку обстрелы из подступавшей вплотную к аэродрому «зеленой зоны» стали там обычным делом. Расширение масштабов боевых действий потребовало повышения эффективности вылетов и совершенствования тактики. В первую очередь это было связано с тем, что изменился сам противник. Уже с 1980-81 гг. начали действовать крупные отряды оппозиции, хорошо вооруженные и оснащенные на базах в Иране и Пакистане, куда из многих стран арабского мира и Запада поступало современное вооружение, средства связи и транспорт. Наибольшую угрозу для них представляла авиация, и вскоре моджахеды получили средства ПВО, в первую очередь -крупнокалиберные пулеметы ДШК и 14,5-мм зенитные горные установки (ЗГУ). По низколетящим самолетам и вертолетам огонь велся также из стрелкового оружия - автоматов и пулеметов. В результате 85% всех повреждений авиационной техники приходилось в то время на пули калибра 5,45 мм, 7,62 мм и 12,7 мм. Возросшая опасность при выполнении боевых задач заставила принять меры по улучшению подготовки направлявшихся в ДРА летчиков. Она была разделена на три этапа. Первый проходил на своих аэродромах и занимал 2-3 месяца изучения района будущих боевых действий, освоения тактических приемов и особенностей пилотирования. Второй занимал 2-3 недели спецподготовки на полигонах ТуркВО. И, наконец, на месте летчики вводились в строй в течение 10 дней. Позднее афганский опыт ввели в практику боевой учебы ВВС, и полки перебрасывались в ДРА без особой подготовки. Прибывших летчиков-новичков с местными условиями знакомили пилоты из сменяемой группы, вывозя их на «спарках» Су-17УМ. Широкое применение авиации требовало четкой организации ее взаимодействия со своими войсками и точного определения местонахождения противника. Однако пилоты сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков, оснащенных самым современным оборудованием, зачастую не могли самостоятельно отыскать малозаметные цели на однообразной горной местности, среди ущелий и перевалов. По этой причине одна из первых масштабных операций, проведенная в долине реки Панджшер в апреле 1980 г. (известная как первая панджшерская), планировалась без привлечения самолетов. Три советских и два афганских батальона, участвовавшие в ней, поддерживались лишь артиллерией и вертолетами. Су-22М4 афганского 355-го авиаполка. За годы войны опознавательные знаки ДРА неоднократно изменяли форму, сохраняя основные цвета: красный (идеалы социализма), зеленый (верность исламу) и черный (цвет земли) Повысить эффективность действий авиации и облегчить работу летчиков должна была предварительная разведка объектов будущих налетов. Ее поначалу выполняли МиГ-21Р и Як-28Р, позднее - Су-17М3Р, оснащенные подвесными разведывательными контейнерами ККР-1/Т и ККР-1/2 с набором аэрофотоаппаратов для плановой, перспективной и панорамной съемок, инфракрасными (ИК) и радиотехническими (РТ) средствами обнаружения. Особенно важной оказалась роль разведки при подготовке крупных операций по уничтожению укрепрайонов и «очистке местности». Полученная информация наносилась на фотопланшеты, где были указаны размещение целей и средств ПВО противника, особенности рельефа местности и характерные ориентиры. Это облегчало планирование ударов, а летчики могли заранее ознакомиться с районом и определиться в выполнении задачи. Перед началом операции выполнялась доразведка, позволявшая окончательно уточнить детали. Напряженная боевая работа заставляла сокращать время обслуживания самолетов. Пока летчик обедал, этот Су-17М4Р успели заправить топливом, перезарядить фотоаппараты и кассеты тепловых ловушек, заменить износившиеся пневматики колес Ночное фотографирование ущелий и перевалов (а оживление в лагерях моджахедов, передвижение караванов с оружием и выход на позиции происходили в основном скрытно, по ночам) с подсветом светящими авиабомбами (САБ) и фотопатронами ФП-100 оказалось неэффективным. Множество резких теней, возникавших в горах при искусственном освещении, делало применение аэрофотоаппаратов УА-47 практически бесполезным - полученные снимки не поддавались дешифровке. Выручала комплексная разведка с использованием ИК-оборудования и радиотехнической системы СРС-13, засекавшей работу радиостанций противника. Усовершенствованная ИК-аппаратура «Зима» позволяла ночью обнаруживать по остаточному тепловому излучению даже следы проехавшего автомобиля или потухший костер. Готовя «работу на день», вокруг Кабула, Баграма и Кандагара по ночам работали 4- 6 разведчиков Су-17М3Р и Су-17М4Р. Появление в небе разведчиков не сулило моджахедам ничего хорошего. Как правило, вслед за ними прилетали ударные самолеты, да и сами разведчики обычно несли вооружение, позволявшее им самостоятельно выполнять «охоту» в заданном районе. При этом самолет ведущего, помимо разведывательного контейнера, нес пару тяжелых НАР С-24, а ведомого - 4 НАР С-24 или бомбы. К 1981 г. боевые операции в Афганистане приобрели масштабы, потребовавшие применения больших групп самолетов. Из-за трудностей базирования на территории ДРА (главным образом, малого количества аэродромов и проблем с подвозом боеприпасов и топлива) сосредоточение привлекаемой к нанесению ударов авиатехники производилось на аэродромах ТуркВО. Существенную долю там составляли Су-17, выгодно отличавшиеся от других самолетов значительной боевой нагрузкой и большей эффективностью при действиях по наземным целям. «Пропускавшиеся» через Афганистан полки Су-17 размещались на аэродромах Чирчик, Мары, Калай-Мур и Кокайты. «Местные» полки 49-й ВА работали «за речкой» почти постоянно и в случае задержек с плановой заменой частей оказывались в ДРА «вне очереди». Работа с баз ТуркВО требовала установки на Су-17 подвесных топливных баков (ПТБ), что снижало боевую нагрузку. Пришлось пересмотреть используемые варианты вооружения в пользу наиболее эффективных. Су-17 стали снаряжаться фугасными и осколочно-фугасными авиабомбами (ФАБ и ОФАБ) в основном калибром 250 и 500 кг (применявшиеся ранее «сотки» оказались недостаточно мощными для ударов в горах). Многозамковые бомбодержатели МБДЗ-У6-68, каждый из которых мог нести до шести бомб, применялись редко - поднять в жару большое количество боеприпасов, делающее оптимальным их подвеску на полуторастакилограммовые МБД, Су-17 было просто не под силу. Широко применялись на Су-17 бомбовые связки и разовые бомбовые кассеты РБК, «засевавшие» осколочными или шариковыми бомбами сразу несколько гектаров . Они были особенно эффективны в условиях, где каждый камень и расщелина становились укрытием для противника. Недостаточно мощные 57-мм НАР С-5 заменялись новыми 80-мм НАР С-8 в блоках Б-8М. Вес их боевой части был увеличен до 3,5 кг, а дальность пуска позволяла поражать цель, не входя в зону зенитного огня. Обычно боевая нагрузка Су-17 определялась из расчета надежного выполнения задания и возможности безопасной посадки при неисправности (по посадочному весу самолета) и не превышала 1500 кг - трех «пятисоток». Пара разведчиков Су-17М4Р на аэродроме Баграм перед вылетом. Самолет ведущего несет контейнер ККР-1/Т. Задача ведомого - вести визуальную разведку и выполнять привязку к ориентирам на местности Летняя жара не только снижала тягу двигателей и надежность оборудования, но и летчики не могли подолгу ожидать вылета в раскаленных кабинах. Поэтому по возможности полеты планировались на раннее утро или в ночь. «Капризными» были и некоторые виды боеприпасов: зажигательные баки, НАР и управляемые ракеты имели ограничения по температуре и не могли долгое время оставаться на подвеске под палящим солнцем. Важной задачей также были превентивные акции, направленные на уничтожение караванов с боеприпасами и оружием, разрушение горных троп и перевалов, по которым моджахеды могли подобраться к защищаемым объектам. Мощные ФАБ-500 и сбрасываемые залпом ФАБ-250 вызывали обвалы в горах, делая их непроходимыми, применялись они и для уничтожения скальных укрытий, складов и защищенных огневых точек. Типовыми вариантами вооружения при вылете на «охоту» за караванами были два ракетных блока (УБ-32 или Б-8М) и две бомбовые кассеты (РБК-250 или РБК-500) или четыре НАР С-24, причем в обоих вариантах подвешивались два ПТБ-800. На стороне противника были хорошее знание местности, поддержка населения, умение пользоваться естественными укрытиями и маскироваться. Отряды оппозиции быстро передвигались и оперативно рассредоточивались в случае опасности. Обнаружить их с воздуха было нелегко даже по наводке из-за отсутствия характерных ориентиров на однообразной местности. К тому же самолеты и вертолеты все чаще натыкались на зенитный огонь. В среднем в 1980 г. вынужденная посадка приходилась на 830 часов налета или примерно на 800 - 1000 вылетов (а мест, пригодных для посадки подбитого самолета, было крайне мало). Для повышения боевой живучести конструкция и системы Су-17 постоянно дорабатывались. Анализ повреждений показал, что чаще всего выходят из строя двигатель, его агрегаты, топливная и гидросистемы, управление самолетом. Проведенный комплекс доработок включал установку накладных подфюзеляжных бронеплит, защищавших коробку приводов, генератор и топливный насос; заполнение топливных баков пенополиуретаном и наддув их азотом, что предотвращало воспламенение и взрыв паров топлива при попадании в них осколков и пуль; изменения в конструкции прицела АСП-17, защитившие его от перегрева. Устранен был и дефект в конструкции тормозного парашюта, замок крепления которого иногда обрывался, а самолет выкатывался за пределы ВПП и получал повреждения. Выручали прочность конструкции и выносливость Су-17. Бывали случаи, когда возвращавшиеся с боевого задания поврежденные машины слетали с полосы и зарывались в грунт по самое «брюхо». Их удавалось восстановить на месте и вновь ввести в строй. Двигатели АЛ-21Ф-3 надежно работали даже в несущий песок и камни «афганец», перенося и немыслимые в нормальных условиях забоины лопаток компрессора, и загрязненное топливо (трубопроводы, протянутые от советской границы для его доставки, постоянно обстреливались, подрывались, а то и просто развинчивались охочим до дармового горючего местным населением). Для снижения потерь были выработаны новые рекомендации по тактике боевого применения самолетов. Заход на цель рекомендовалось выполнять с большой высоты и скорости, с пикированием под углом 30-45°, что затрудняло противнику прицеливание и снижало эффективность зенитного огня. На скорости свыше 900 км/ч и высотах более 1000 м боевые повреждения Су-17 вообще исключались. Для достижения внезапности удар предписывалось выполнять сходу, сочетая в одной атаке пуск ракет со сбросом бомб. Правда, точность такого бомбоштурмового удара (БШУ) из-за большой высоты и скорости снижалась почти вдвое, что приходилось компенсировать увеличением количества самолетов ударной группы, выходивших на цель с разных направлений, если позволяла местность. К 1981 г. насыщенность районов боевых действий средствами ПВО достигла таких масштабов, что при планировании операций приходилось принимать во внимание необходимость их преодоления. Вокруг укрепленных районов и баз моджахедов насчитывалось до нескольких десятков зенитных огневых точек. Снижение риска достигалось умелым использованием рельефа местности, обеспечивавшим скрытность подхода и внезапность выхода на цель, а также выбором путей отхода после атаки. Как правило, первой в намеченном районе появлялась пара Су-17, задачей которой была доразведка и целеуказание осветительными или дымовыми бомбами, упрощавшее ударной группе выход на цель. Пилотировали их наиболее опытные летчики, имевшие боевой опыт и навыки обнаружения малозаметных объектов. Поиск противника выполнялся на высоте 800 - 1000 м и скорости 850 - 900 км/ч, занимая около 3 - 5 минут. Дальше все решала быстрота удара, не дававшая противнику возможности организовать ответный огонь. На обозначенную САБ цель через одну-две минуты выходила группа подавления средств ПВО из 2-6 Су-17. С высоты 2000-2500 м они обнаруживали позиции ДШК и ЗГУ и с пикирования наносили удар НАР С-5, С-8 и кассетами РБК-250 или РБК-500. Уничтожение зенитных точек выполнялось как одиночным самолетом, так и парой - ведомый «добивал» очаги ПВО. Не давая противнику опомниться, через 1 - 2 минуты над целью появлялась основная ударная группа, выполнявшая атаку с ходу. На укрепления и скальные сооружения обрушивались бомбы ФАБ(ОФАБ)-250 и-500, ракеты С-8 и С-24. Надежные и простые в эксплуатации С-24 имели большую дальность и точность пуска (особенно с пикирования) и применялись очень широко. Для борьбы с живой силой использовались кассетные боеприпасы РБК-250 и РБК-500. При действиях в «зеленке» и на открытых местах иногда использовались зажигательные баки с огнесмесью. Пушки постепенно утрачивали свое значение - их огонь при больших скоростях оказался неэффективен. Для повторной атаки самолеты выполняли маневр с расхождением, поднимаясь до 2000 - 2500 м, и вновь наносили удар с разных направлений. После отхода ударной группы над целью опять появлялись разведчики, производившие объективный контроль результатов БШУ. Выполнение задачи следовало подтвердить документально - в противном случае наземные войска могли ожидать неприятные сюрпризы. При выполнении особенно мощных авиационных налетов фотоконтроль выполнял специально вызывавшийся с ташкентского аэродрома Ан-30. Его фотооборудование позволяло делать многоспектральную съемку местности и точно определить степень разрушений. Надежную радиосвязь с КП и согласованность действий обеспечивал находящийся в воздухе самолет-ретранслятор Ан-26РТ. Опробование двигателя Су-17М4  Афганские Су-22М4 отличались от Су-17М4 лишь составом бортового оборудования Если удар выполнялся для поддержки наземных частей, требовалась повышенная точность, поскольку цели находились вблизи своих войск. Для организации взаимодействия с авиацией наземным частям придавались авианаводчики из ВВС, которые налаживали связь с летчиками и указывали им положение переднего края пуском сигнальных ракет или дымовыми шашками. Атаки при поддержке наземных войск продолжались до 15-20 минут. С помощью авианаводчиков наносились и удары по вызову для подавления вновь выявляемых огневых точек. Для обеспечения скрытности маневра войск или прикрытия их отхода Су-17 привлекались и в качестве постановщиков дымовых завес. Для оценки результативности атак летчики не позднее, чем через 5-10 минут после посадки, когда еще свежи были впечатления, должны были подать в штаб полка письменное донесение, немедленно передававшееся на КП ВВС. Еще одной задачей Су-17 стало минирование с воздуха опасных районов и горных троп. Наряду с разрушением перевалов бомбовыми ударами их минирование затрудняло моджахедам передвижение, лишая преимущества в подвижности и неожиданности нападения. Для этого использовались контейнеры малогабаритных грузов КМГУ, каждый из которых мог нести до 24 мин. Разбрасывание мин Су-17 производили на скорости порядка 900 км/ч. При выполнении боевых задач выявились и недостатки, снижавшие эффективность БШУ и увеличивавшие риск повреждений и потерь. Так, при освоении афганского театра военных действий летчики, выполнив несколько успешных боевых вылетов, склонялись, к переоценке своих сил, недооценке противника (особенно его ПВО) и начинали выполнять атаки однообразно, без учета особенностей местности и характера целей. Сброс бомб производился не по единой методике, что приводило к их рассеиванию. Несколько звеньев Су-17 были даже возвращены на базы из-за низкой точности ударов и опасности попадания по своим войскам. Так, летом 1984 г. под Кандагаром ведущий группы Су-17, отказавшийся от помощи авианаводчика, по ошибке сбросил бомбы на свой пехотный батальон. Погибли четыре человека и девять было ранено. Другим недостатком было частое отсутствие точных данных о ПВО противника (по сведениям разведки, в районах базирования моджахедов в 1982 г. насчитывалось до 30-40 зенитных средств, а в опорных пунктах - до 10). Зенитные пулеметы и ЗГУ маскировались, прятались в укрытиях и быстро выдвигались на огневые позиции. Шаблонность атак и затягивание времени на обработку цели в таких условиях становились опасными. В районе Кандагара летом 1983 г. Су-17 был сбит при выполнении шестого (!) захода на цель. Другими причинами потерь стали ошибки пилотирования и отказы техники. Возросшее напряжение боев привело к большим нагрузкам на летчиков и техников самолетов. Специалисты НИИ авиакосмической медицины, изучавшие «человеческий фактор», определили, что чрезмерные нагрузки на организм в течение 10-11 месяцев интенсивных боевых вылетов приводят к «существенным функциональным сдвигам и нарушениям в сердечно-сосудистой и двигательной системах; у 45% летчиков отмечается переутомление и нарушения нормальной психической деятельности». Жара и обезвоживание приводили к значительным потерям в весе (в некоторых случаях до 20 кг) - люди буквально высыхали на солнце. Медики рекомендовали снизить летную нагрузку, сократить время ожидания перед вылетом и создать благоприятные условия для отдыха. Практически же единственной реализованной рекомендацией стало соблюдение предельно допустимой летной нагрузки, определенной в 4 - 5 боевых вылетов в день. На деле же летчикам приходилось выполнять иногда до 9 вылетов. На основе накопленного опыта были сформированы смешанные группы, состоявшие из истребителей-бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов, дополнявших друг друга при поиске и уничтожении противника. С их применением в декабре 1981 г. была проведена тщательно подготовленная операция по уничтожению исламских комитетов «власти на местах» в провинции Фориаб, организовывавших вооруженное сопротивление Кабулу. Кроме сухопутных войск, к операции привлекался воздушный десант (1200 человек) и 52 самолета ВВС: 24 Су-17М3, 8 Су-25, 12 МиГ-21 и 8 Ан-12. От армейской авиации в операции участвовали 12 Ми-24Д, 40 Ми-8Т и 8 Ми-6, а также 12 афганских Ми-8Т. Вся операция готовилась в строгом секрете - уже имелся опыт нанесения ударов по пустым местам в случаях, когда в разработке планов участвовали афганские штабисты. На этот случай для них была разработана легенда, и только за 2 - 3 часа афганским военным сообщили истинную информацию. Разведчик Су-17М3Р с контейнером комплексной разведки ККР-1/2 для инфракрасной и телевизионной съемки (после возвращения из Афганистана) «Глаза армии» - разведчик Су-17М4Р с контейнером радиотехнической и фоторазведки ККР-1/Т Масштабы операции потребовали, помимо группы подавления ПВО самолетами МиГ-21, выделения трех ударных групп, насчитывавших по 8 Су-17М3 (первой из них придавались еще и 8 Су-25, особенно эффективных при штурмовке), вооруженных ФАБ-250 и РБК-250 с шариковыми бомбами. Удар на этот раз наносился не только по складам с вооружением, позициям ПВО и опорным базам вооруженных отрядов. Уничтожению подлежали штабы исламских комитетов, жилые здания, где могли скрываться моджахеды, и сельские школы, в которых велась «антикабульская агитация». После отхода ударных групп местность «обработали» Ми-24Д, они же обеспечили огневую поддержку при высадке десанта с Ми-8Т и Ми-6. Несмотря на низкую облачность, действия авиации помогли добиться успеха - база в этом районе перестала существовать. Потери составили один Ми-24Д и два Ми-8Т, сбитые огнем ДШК. В апреле 1982 г. подобная операция по уничтожению базового района моджахедов была проведена в Рабати-Джали (провинция Нимроз), а 16 мая начались боевые действия по очистке от вооруженных групп долины реки Панджшер. В них участвовали 12 000 человек, 320 танков, БМП и БТР, 104 вертолета и 26 самолетов. Успех второй панджшерской операции обеспечили разведчики Су-17, которые в течение 10 дней вели аэрофотосъемку района предстоящих действий, отсняв для составления подробных фотопланшетов около 2000 кв. км местности. Афганская кампания приобрела масштабы настоящей войны, в которой авиации приходилось выполнять разнообразные боевые задачи. Истребители - бомбардировщики Су-17 с афганских аэродромов и баз ТуркВО уничтожали объекты и базы противника, вели непосредственную поддержку войск, прикрывали разведгруппы и десанты, проводили разведку, минирование с воздуха, целеуказание и постановку дымовых завес. При штурмовке и атаках с малых высот чаще применялись Су-25, обладавшие лучшей маневренностью и защищенностью. Однако успех очередной боевой операции оборачивался усилением оппозиции и активности ответных нападений. Безнадежность продолжения войны стала очевидной, но к ее прекращению Бабрак Кармаль относился резко отрицательно. Несмотря на предпринимавшиеся усилия по очистке провинций от вооруженных отрядов моджахедов и насаждению «народной власти», фактически под контролем находились только крупные города и патрулируемые зоны вокруг аэродромов, воинских частей и некоторых дорог. Карта, на которой летчикам указывались рекомендуемые места вынужденной посадки и катапультирования, красноречиво говорила о том, кто на самом деле является хозяином положения. Это отлично видели и афганские летчики (на «сухих» летал 355-й авиаполк, стоявший в Баграме), без энтузиазма относившиеся к боевой работе. В воздух они поднимались крайне редко, в основном, чтобы не утратить навыков пилотирования. По словам одного из советских советников, участие элиты афганской армии - летчиков - в боях «больше напоминало цирк, а не работу». Справедливости ради надо сказать, что и среди них встречались смелые пилоты, не уступавшие в летной подготовке советским летчикам. Таким был заместитель командующего афганских ВВС, семью которого вырезали моджахеды. Его дважды сбивали, он получил тяжелые ранения, но продолжал летать на Су-17 много и охотно. Если бы афганские «товарищи по оружию» только плохо воевали - это было бы еще полбеды. Высокопоставленные чины правительственных ВВС выдавали противнику подробности готовящихся операций, а рядовые летчики, случалось, перелетали в соседний Пакистан. 13 июня 1985 г. в Шинданде моджахеды, подкупив афганскую охрану аэродрома, взорвали на стоянках 13 правительственных МиГ-21 и шесть Су-17, серьезно повредив еще 13 самолетов. В начале афганской эпопеи вооруженные отряды оппозиции уходили на зиму за границу для отдыха и переформирования. Напряжение боевых действий в этот период обычно ослабевало. Однако к 1983 г. оппозицией было создано множество опорных баз, давших возможность вести бои круглогодично. В этом же году у моджахедов появилось и новое оружие - переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), изменившие характер воздушной войны. Легкие, мобильные и высокоэффективные, они могли поражать самолеты на высотах до 1500 м. ПЗРК легко доставлялись в любой район и использовались не только для прикрытия мест базирования вооруженных отрядов, но и для организации засад у аэродромов (прежде попытки нападений на них ограничивались обстрелом издалека). По иронии судьбы, первыми ПЗРК были «Стрела-2» советского производства, поступившие из Египта. В 1984 г. отмечено было 50 пусков ракет, шесть из которых достигли цели: сбито три самолета и три вертолета. Только сбитый «стрелой» прямо над Кабулом в ноябре 1984 г. Ил-76 убедил командование в необходимости считаться с возросшей опасностью. К 1985 г. количество средств ПВО, обнаруженных разведкой, возросло в 2,5 раза по сравнению с 1983 г., а к концу года увеличилось еще на 70%. Всего за 1985 г. выявили 462 зенитные точки. Су-17М4 несет три фугасные «пятисотки» ФАБ-500М62 Разведчик Су-17 ведет ночное фотографирование горного плато Зингар вблизи Кабула с подсветкой САБ. Вспышки вверху - трасса зенитного пулемета ДШК Для преодоления нарастающей угрозы при планировании вылетов выбирались по возможности безопасные маршруты, на цель рекомендовалось выходить с направлений, не прикрытых средствами ПВО, а атаку проводить в течение минимального времени. Полет к цели и обратно следовало выполнять по разным маршрутам на высотах не менее 2000 м, пользуясь рельефом местности. В опасных районах летчикам предписывалось следить за возможными пусками «стрел» (в это время все ПЗРК называли «стрелами», хотя встречались и другие типы - американские «Ред Ай» и английские «Блоупайп») и избегать попаданий энергичным маневром, уходя в сторону солнца или плотной облачности. На самых опасных участках полета - при взлете и посадке, когда самолеты имели небольшую скорость и недостаточную маневренность, их прикрывали вертолеты, патрулировавшие зону вокруг аэродрома. Ракеты ПЗРК наводились по тепловому излучению самолетных двигателей, и поражения ими можно было избежать при помощи мощных источников тепла - ИК-ловушек с термитной смесью. С 1985 г. ими оснащались все без исключения типы самолетов и вертолетов, применявшиеся в Афганистане. На Су-17 провели комплекс доработок по установке балок АСО-2В, каждая из которых несла по 32 пиропатрона ППИ-26 (ЛО-56). Вначале устанавливались 4 балки над фюзеляжем, затем 8 и, наконец, их количество возросло до 12. В гаргроте за кабиной установлены были еще 12 более мощных патронов ЛО-43. В зоне действия ПВО противника и при взлете/посадке летчик включал автомат отстрела ловушек, высокая температура горения которых отвлекала на себя самонаводящиеся «стрелы». Для упрощения работы летчика управление АСО вскоре было выведено на «боевую» кнопку - при пуске ракет или сбросе бомб над защищенной ПВО целью автоматически начинался отстрел ППИ. Боевой вылет самолета, не снаряженного пиропатронами, не допускался. Другим способом защиты от ПЗРК стало включение в ударную группу самолетов-постановщиков «зонтика» из САБ, которые сами по себе были мощными источниками тепла. Иногда для этого привлекались Су-17, проводившие доразведку цели. Крупные тепловые ловушки могли сбрасываться из КМГУ, после чего наносившие удар самолеты выходили на цель, «ныряя» под медленно опускавшиеся на парашютах САБ. Принятые меры позволили заметно сократить потери. В 1985 г. вынужденная посадка из-за боевых повреждений приходилась на 4605 часов налета. По сравнению с 1980 г. этот показатель улучшился в 5,5 раза. За весь 1986 г. зенитные средства «достали» лишь один Су-17М3, когда молодой летчик в пикировании «нырнул» до 900 м и пули ДШК пробили обечайку сопла двигателя. Анализ потерь за 1985 г. показал, что 12,5% самолетов были сбиты из автоматов и ручных пулеметов, 25% - огнем из ДШК, 37,5% - огнем из ЗГУ и 25% - ПЗРК. Снизить потери можно было путем дальнейшего увеличения высоты полетов и применением новых типов боеприпасов. Мощные НАР залпового пуска С-13 и тяжелые НАР С-25 запускались с дальности до .4 км, они были устойчивы в полете, точны и снабжены неконтактными взрывателями, повысившими их эффективность. Основной же защитой стал уход на большие высоты (до 3500-4000 м), сделавший применение НАР малорезультативным, и главным видом вооружения истребителей-бомбардировщиков стали бомбы. В Афганистане впервые в боевой обстановке были применены объемно-детонирующие авиабомбы (ОДАБ) и боевые части к ракетам. Жидкое вещество такого боеприпаса при попадании в цель рассеивалось в воздухе, и образовавшееся аэрозольное облако подрывалось, поражая противника раскаленной ударной волной в большом объеме, причем максимальный эффект достигался при взрыве в стесненных условиях, сохранявших мощность огненного шара. Именно такие места - горные ущелья и пещеры - служили укрытиями для вооруженных отрядов. Чтобы уложить бомбы в труднодоступное место, применялось бомбометание с кабрирования: самолет уходил вверх из зоны досягаемости зенитного огня, а бомба, описав параболу, падала на дно ущелья. Применялись и специальные виды боеприпасов: так, летом 1988 г. Су-17 из Мары ломали скальные укрепления бетонобойными бомбами. Корректируемые бомбы и управляемые ракеты чаще использовались штурмовиками Су-25, больше подходившими для действий по точечным целям. Авиационные налеты велись не только «умением», но и «числом». По оценке специалистов по вооружению штаба ТуркВО, начиная с 1985 г. на Афганистан сбрасывалось ежегодно больше бомб, чем за всю Великую Отечественную войну. Суточный расход бомб только на авиабазе Баграм составлял два вагона. При интенсивных бомбежках, которыми сопровождалось проведение крупных операций, в дело шли боеприпасы прямо «с колес», подвозимые с заводов-изготовителей. При особенно большом их расходе со складов ТуркВО свозились даже сохранившиеся с тридцатых годов бомбы старых образцов. Бомбодержатели современных самолетов не подходили для их подвески, и оружейникам приходилось, обливаясь потом, вручную подгонять каленые стальные ушки фугасок с помощью ножовок и напильников. Одной из самых напряженных операций с широким применением авиации была проведенная в декабре 1987 г.- январе 1988 г. «Магистраль» по разблокированию Хоста. Бои велись на территориях, контролируемых племенем джадран, ни в какие времена не признававшим ни короля, ни шаха, ни кабульское правительство. Граничащие с Пакистаном провинция Пактия и округ Хост были насыщены самым современным оружием и мощными укреплениями. Для их выявления в укрепленные районы высадили ложный воздушный десант и по обнаружившим себя огневым точкам нанесли мощные авиационные удары. При налетах отмечалось до 60 пусков ракет по атакующим самолетам в час. С такой плотностью зенитного огня летчикам еще не приходилось встречаться. В широкомасштабной операции участвовало 20000 советских солдат, потери составили 24 убитых и 56 раненых. Январь 1989 г. Разведчики Су-17М4Р до последних дней обеспечивали вывод войск из ДРА Затянувшаяся война велась уже только ради самой себя, поглощая все больше сил и средств. Конец ей был положен отнюдь не военным путем, и с 15 мая 1988 г. начался вывод советских войск из Афганистана. Для его прикрытия на аэродромы ТуркВО стянули мощные авиационные силы. Помимо фронтовой и армейской авиации - Су-17, Су-25, МиГ-27 и Су-24, для налетов на Афганистан привлекли бомбардировщики дальней авиации Ту-22М3. Задача была однозначной - не допустить срыва вывода войск, обстрелов уходящих колонн и нападений на оставляемые объекты. С этой целью требовалось помешать передвижению вооруженных отрядов, срывать их выход на выгодные позиции, наносить упреждающие удары по местам их развертывания, вносить дезорганизацию и деморализовывать противника. Об эффективности каждого вылета «за речку» речь уже не шла - поставленные задачи должны были выполняться количественно, «выкатыванием» на афганские горы запасов со всех окружных складов авиационного боепитания. Бомбардировки велись с больших высот, поскольку по данным разведки к осени 1988 г. у оппозиции насчитывалось уже 692 ПЗРК, 770 ЗГУ, 4050 ДШК. На Су-17, участвовавших в налетах, была доработана радиосистема дальней навигации (РСДН), обеспечивавшая автоматизированный выход на цель и бомбометание. Точность такого удара оказалась невелика, и летом 1988 г. при одном из налетов бомбами «накрыли» полевой штаб афганской мотопехотной дивизии. Второй этап вывода войск начался 15 августа. Чтобы избежать лишних жертв подходившей к концу войны, решили увеличить интенсивность бомбежек районов ожидаемого сосредоточения моджахедов и постоянными ударами сопровождать выход колонн, срывая связь между отрядами оппозиции и подход караванов с оружием (а их только за октябрь замечено было больше ста). Для этого широко стали применяться ночные вылеты группами по 8,12,16 и 24 Су-17 с выходом в заданный район с помощью РСДН на большой высоте и проведением навигационного (площадного) бомбометания. Удары наносились в течение всей ночи с разными интервалами, изматывая противника и держа его в постоянном напряжении близкими разрывами мощных бомб. Два вылета за ночь стал и для летчиков обычным делом. Кроме того, велась ночная подсветка местности вдоль дорог с помощью САБ. К зиме особенно важным стало обеспечение безопасности на участке, соединявшем Кабул с Хайратоном на советско-афганской границе. Район Панджшера и Южного Саланга контролировали отряды Ахмад Шаха Масуда - «панджшерского льва», лидера независимого и дальновидного. Командованию 40-й армии удалось договориться с ним о беспрепятственном проходе советских колонн, за что генерал-лейтенант Б. Громов даже предлагал Масуду «оказать вооруженным отрядам Панджшера по их просьбе поддержку артиллерией и авиацией» в борьбе с другими группировками. Перемирие сорвали афганские правительственные части, которые постоянно вели провокационные обстрелы селений вдоль дорог, вызывая ответный огонь. Избежать боев не удалось, и 23 - 24 января 1989 г. начались непрерывные авиационные налеты на Южный Саланг и Джабаль-Уссардж. Сила бомбовых ударов была такова, что жители близлежащих афганских кишлаков покидали свои дома и перебирались ближе к дорогам, по которым к границе тянулись грузовики и военная техника. Вывод войск завершился 15 февраля 1989г. Еще раньше на советские аэродромы из Баграма перелетели последние Су-17М4Р, а наземное имущество вывезли на Ил-76. Но «сухие» еще оставались в Афганистане - 355-й афганский авиаполк продолжал боевые действия на Су-22. Поставки самой современной боевой техники и боеприпасов правительству Наджибуллы с уходом советских войск даже расширились. Война продолжалась, и в 1990 г. решением ЦК КПСС и Совета Министров СССР Афганистану были переданы 54 боевых самолета, 6 вертолетов, 150 тактических ракет и множество другой техники. У летчиков 355-го авиаполка впереди были еще три года боев, потерь, участие в неудавшемся мятеже в марте 1990 г. и бомбардировки Кабула при взятии его силами оппозиции в апреле 1992 г.  Техник наносит на борт самолета очередную звезду, соответствующую десяти боевым вылетам. В некоторых полках звезды «присуждались» за 25 вылетов Су-17М4 на Баграмском аэродроме. Под крылом - фугасные авиабомбы ФАБ-500М54, ставшие к концу войны основными применявшимися боеприпасами 2. Су-22М4 с бомбовыми кассетами РБК-500-375 из 355-го авиаполка ВВС Афганистана, авиабаза Баграм, август 1988 г. 3. Су- 17МЗР 139-й Гвардейский ИБАП, прибывший из Борзи (ЗабВО) на авиабазу Шинданд, весна 1987 г. 4. Су-17М3 136-й ИБАП, прибывший из Чирчика (ТуркВО) на авиабазу Кандагар, лето 1986 г. После ремонта часть самолетов полка не имела опознавательных знаков, а на некоторых были нанесены звезды без окантовки Автор Виктор Марковский
|
|
|
|
|
#17 |
|
|
Дальняя авиация в Афганистане
Афганская война и события на Среднем Востоке привели к серьезному изменению структуры советских ВВС на этом направлении и, в первую очередь, авиации южных округов – ТуркВО и САВО. Прежде считавшийся второстепенным Юг располагал истребителями 12-й армии ПВО и фронтовой авиацией (ФА) округов, насчитывавшей только три полка ИБА, вооруженных к тому же далеко не новой техникой (Су-17 первых серий и МиГ-21ПФМ). Бомбардировочные силы обоих округов ограничивались единственным полком ФБА – 149-м БАП в Николаевке на Як-28И. В начале 80-х гг. последовал ряд мер, направленных на повышение ударных возможностей этой группировки: полки перевооружали на новую технику, а некоторые истребительные части передавали из ПВО в подчинение ВВС, переформировывая их для усиления ИБА и ФБА. Хотя сил Дальней авиации (ДА) в округах по-прежнему не было – все ее части оставались сосредоточенными в европейской части страны, на границе с Китаем и Дальнем Востоке. Однако грозная тень Дальней авиации с первых же дней ввода войск витала над Афганистаном…  Предполагая крайние варианты развития событий, вплоть до открытого столкновения с «передовыми отрядами империализма» и «реакционными арабскими режимами», командование сделало соответствующие шаги по обеспечению операции. Хотя первоначальной директивой Генштаба от 24 декабря 1979 г. требовалось только «привести в полную боевую готовность… авиацию ТуркВО и САВО для возможного увеличения группы советских войск в Афганистане», готовность коснулась практически всех частей ВВС и ПВО, включая и Дальнюю авиацию. В отличие от привычных тревог, проводившихся по сценарию ядерного конфликта, на этот раз «дальникам» была поставлена задача обеспечить продвижение войск, при необходимости используя свои ударные возможности и сокрушая сопротивление обычными боеприпасами. Так, в Энгельсе к бомбовым ударам готовили даже «эмки» Мясищева 1096-го и 1230-го ТБАП, снимая с заправщиков топливные «бочки» и переоборудуя их под подвеску на кассетных держателях по 52 ФАБ-250 или 28 ФАБ-500. На аэродром Ханабад поближе к границе перебросили Ту-16 из Орши, а в Семипалатинск – из Прилук. Все необходимое взяли с собой, включая и бомбы крупных калибров. На месте получили боевую задачу – нанести удар по северо-западной окраине Герата, причем из-за неясности обстановки (первые сообщения об «удовлетворении просьбы афганской стороны о военной помощи» появились только 29 декабря) вылет требовалось произвести под покровом темноты. Причиной такого приказа стали опасения встретить в этом городе серьезное сопротивление, ведь в марте 1979 г. там произошло крупное восстание, поддержанное местным гарнизоном и приведшее к гибели тысяч людей. Полученные «дальниками» сведения о дислокации и силах противника не отличались определенностью: «Десяток их или целая дивизия, в доме ли сидят или митингуют на городской площади – об этом никто ничего не знал», – вспоминал главком ДА В.В.Решетников. В итоге налет не состоялся. Ввод войск прошел практически без помех. Несмотря на разрастание боевых действий, в первые годы войны 40-я Армия обходилась силами находившейся под рукой армейской и фронтовой авиации. Исключением стало обращение за помощью к Дальней авиации, когда понадобилось нанести удар по лазуритовым копям в северном уезде Джарм, относившемся к владениям Ахмад Шаха. Откровенное пренебрежение центральной властью и своеволие хозяина этих мест основывались, помимо его личных способностей и военной силы мятежников, еще и на исконных промыслах этих мест – добыче драгоценных камней. Ощутимые доходы от их вывоза укрепляли власть Масуда и позволяли ему .проводить собственную политику, неплохо снабжая свои отряды в традициях принятого на Востоке сочетания войны и торговли. Район, где и в лучшие времена не признавали центральной власти, не давал покоя Кабулу, то и дело предпринимавшему попытки «пощупать» месторождения . Очередную операцию по «подрыву душманской экономики» готовили на лето 1981 г. – в традициях планового хозяйства директивы МО СССР на начало года требовали «освободить от мятежников не менее 70% территории страны и 80% уездных и волостных центров». При подготовке разведка обнаружила у селения Сарнсанг полевой аэродром, с которого камни вывозились в Пакистан. В этот район направили Ми-8 советских погранвойск из Гульханы, однако рудники хорошо охранялись, и вертолеты наткнулись на небывало плотный зенитный огонь. Не дойдя до цели, они отвернули обратно, привезя внушительный набор пробоин. Следующим шагом готовился налет целой вертолетной эскадрильей из Файзабада, но из штаба ВВС 40-й Армии работу запретили, сочтя ее чересчур рискованной. Уничтожить копи решили бомбардировкой, но от аэродромов 40-й Армии и приграничных баз ТуркВО Джарм отделяло солидное расстояние. Искать затерянную среди ледников и горных хребтов цель для летчиков МиГ-21 и Су-17, располагавших достаточно скромным прицельно-навигационным оборудованием, было нелегким делом (годом раньше группу чирчикских МиГ-21 на маршруте так «сдуло» струйными течениями, что они уклонились почти на 100 км и сели в Баграме буквально на последних литрах топлива). Удар поручили Дальней авиации, и 10 июня по Джарму отработала тяжелобомбардировочная эскадрилья. Бомбометание вели с высот 10-12 тысяч м, не столько из опасения огня с земли, сколько по безопасности полета над горами, достигающими здесь высот 5-6,5 тысячи м (сама цель лежала у подножия «отметки 6729 м» – высочайшего пика афганского Гиндукуша). Результативность удара толком установить не удалось, однако известно, что и до этого добыча лазуритов там велась взрывным способом… ФАБ-1500 сброшены в районе Кандагара. Хорошо видно, что прицельная марка лежит в стороне от дувалов, на границе песков у реки Дори Вновь ДА появилась над Афганистаном во время масштабной Панджшерcкой операции 1984 г. Два предыдущих года с Масудом действовало перемирие, по которому 40-я Армия обязывалась даже оказывать ему «авиационную и артиллерийскую поддержку в случае вооруженных столкновений его отрядов с соперничающими формированиями». Особо оговаривалось обещание «не наносить авиационных ударов по Панджшеру». Персональную работу с Ахмад Шахом вел посланный к нему подполковник ГРУ, «знакомя его с советским образом жизни и произведениями классиков марксизма». Однако мир был зыбким: усиление влияния «панджшерского льва» вызывало ревность не только Кабула, но и многочисленного советнического аппарата, войной оправдывавшего свою роль. Для избавления от этой «занозы» не привыкший размениваться по мелочам один из высокопоставленных сотрудников КГБ предложил радикальные меры: «Спланировать комплекс военно-тактических мероприятий (операцию) по группировке Ахмад Шаха, в том числе с использованием оружия особой мощности». Последнее подразумевало не только участие в руководстве операцией самого министра обороны С.Л.Соколова, но и небывало масштабное привлечение авиации. Помимо ВВС 40-й А, в налетах задействовали четыре полка ФА с приграничных аэродромов, а для применения боеприпасов самых крупных калибров потребовалось участие «дальников». В начале апреля в Ханабад перебазировали эскадрилью бобруйского 200-го Гв.ТБАП на Ту-16, способных доставить к цели сразу 9 т бомб, включая трех-, пяти– и девятитонные. На базу Мары-2 перелетели и шесть Ту-22М2 из 1225-го ТБАП с забайкальского аэродрома Белая под началом зам. командира полка п/п-ка В.Галанина. Объемы предстоящей работы были налицо: склады не могли вместить все завезенные боеприпасы, и повсюду – у стоянок, между ВПП и «рулежками» громоздились бомбы всевозможных типов и калибров. Все эти запасы предстояло вывалить на Панджшер, где численность отрядов Масуда разведка к апрелю 1984 г. оценивала в 3500 бойцов. Другими словами, на каждых 12-15 человек противника приходился один советский самолет или вертолет. В 4.00 19 апреля бомбардировщики пошли на цели. Первыми поднялись Ту-16, затем – Ту-22М2, через полчаса вдогон им ушли 60 Су-24. Концентрация самолетов в небе над Панджшером была такой, что подходившим к месту удара «бортам» рекомендовали включать РСБН только с ближнего рубежа, иначе «захлебывалась» станция в Баграме, обладавшая пропускной способностью в 100 машин (большей плотности не встречается и в столичных аэропортах). Чтобы летчики могли лучше ориентироваться над незнакомой местностью, там загодя смонтировали «маяки» для бортовых РЛС – фермы с уголковыми отражателями по типу стоявших на полигонах. «Дальники» заходили на цели выше остальных, сбрасывая бомбы с 9000-10000 м сквозь плотную облачность. Особенно впечатляющими были удары «двоек»: каждая из машин несла по 64 ОФАБ-250-270, вываливавшихся серией с горизонтального полета, после чего десятки гектаров внизу вскипали сплошным ковром разрывов. Для сохранения центровки замки бомбодержателей раскрывались в определенном порядке: попарно слева и справа, спереди и сзади. Первыми из семейства «Бэкфайров» над Афганистаном появились Ту-22М2 Массированные удары продолжались три первых дня операции, но «тушки» из Ханабада и Мары выполняли лишь один вылет по утрам – после него цели затягивало пыльной пеленой, да и боевую работу Дальней авиации для скрытности было предписано вести в сумерках. Этим и ограничилось участие ДА в операции. Уже в мае ее машины покинули приграничные аэродромы. Эффективность высотных бомбардировок оказалась невысокой. Одной из причин этого стал неподходящий характер применявшихся боеприпасов. Сотрясавшие землю тяжелые фугаски не достигали результата: выявленные разведкой немногочисленные заслоны на пути войск не задерживались на одном месте, вовремя уходя из-под ударов. Сами бомбы калибров 3000, 5000 и 9000 кг вообще не соответствовали задачам борьбы с живой силой и даже разрушения строений – при их создании совершенно не предполагалось применение по наземным целям! Тяжелые ФАБ появились в конце сороковых годов как единственное тогда средство борьбы с крупными кораблями и с тех пор оставались на вооружении, хотя характеристики их поражающего действия по другим объектам даже не оценивались (исключением были «полуторки», считавшиеся приемлемыми для ударов по промышленным объектам, плотинам и подземным сооружениям). Даже при бомбардировке «вражеских кишлаков», целиком сметавшей дома и дувалы, реальный эффект был невелик. Мощь внушительно выглядящих бомб расходовалась впустую: радиус летального поражения ударной волной ФАБ-3000 не превышал 39 м и даже для ФАБ-9000 оставался в пределах 57 м. Выводящие из строя контузии с кровотечением из носа и ушей противник получал, соответственно, в 158 и 225 м вокруг – результат, уступавший серии бомб «фронтового калибра», прицельно сброшенных со штурмовика. Несмотря на все это, за несколько боевых вылетов, нечастых в практике «дальников», командиры обеих групп получили ордена Боевого Красного Знамени. Несмотря на преклонный возраст, Ту-16 из 251-го Гв.ТБДП успешно выдержали афганский экзамен Эмблема на борту одного из "афганцев" 251-го Гв.ТБАП Афганскую кампанию принято сравнивать с вьетнамской войной. Напрашивается параллель и в оценке работы Дальней авиации. История повторялась: начав с использования звеньев штурмовиков и истребителей, американские ВВС были втянуты в бесконечную цепь наращивания ударов, и уже через год вовлекли в дело стратегическую авиацию, пытаясь тоннажом бомб решить все задачи. Тем не менее, при всем кажущемся подобии следует учитывать принципиальные отличия. ОКСВ был впятеро меньшим, чем американские силы во Вьетнаме, боевые действия носили значительно менее масштабный характер, и, соответственно, ВВС 40-й Армии даже с привлекавшимися частями на порядок уступали многотысячной авиационной армаде США. Севернее 16-й параллели США все же имели дело с государством, включая предприятия, склады, транспортные узлы с мостами, станциями и портами – привычными крупными целями для бомбардировки. Даже на Юге, где практиковались повальные ковровые бомбардировки, целью служила сеть дорог, по которым перебрасывали пополнение и оружие. Эти рецепты не подходили к борьбе с разрозненным и малочисленным противником, как это имело место в чисто противопартизанской афганской войне. Соответственно, и участие Дальней авиации в ней оставалось эпизодическим. Все необходимое противник носил с собой, не нуждаясь в предусмотренной военной наукой опоре на инфраструктуру – укрепления, склады, штабы и казармы, привычно отыскиваемые разведкой. Даже сохранившиеся с давних времен крепости и пещеры, которые могли служить пристанищем моджахедам и выглядели «надежной мишенью», тут же оставлялись привычными к кочевью бойцами, растворявшимися в горах и «зеленке». Когда самый большой урон наносили засады на дорогах и в селениях, мощь бомбардировщиков не находила применения. Складывалась неловкая ситуация: противник продолжал набирать силу, расширяя сферу влияния, но не подходил для чересчур мощной авиации, буквально не замечавшей врага. Это в полной мере относилось к итогам «Большого Панджшера» 1984 г. Хотя тогдашний командующий 40-й Армии ген.-л-т Л.Е.Генералов и называл его «примером наиболее крупной и результативной операции», реальные успехи были более чем скромными. Панджшер пришлось оставить, и в него вернулись избежавшие больших потерь отряды и сам Масуд. Заключение ГлавПУРа гласило: «Опыт подтвердил невысокую эффективность проведения крупных военных операций именно с военной точки зрения, а иногда и их политический ущерб». Что же касается бомбовых ударов, то пехота высказывалась еще определеннее, упрекая авиаторов, что те «даром свой шоколад едят». И все же летом 1986 г. Дальняя авиация вновь была привлечена к работе по Афганистану: само наличие столь мощной силы требовало ее использования. В те месяцы готовился широко декларированный вывод части ОКСВ, в ходе которого страну должны были покинуть 6 полков (впрочем, параллельно шло пополнение армии), и дальним бомбардировщикам надлежало воспрепятствовать передвижению душманов и обстрелам уходящих колонн. Кроме того, намечался ряд операций на юге, нуждавшихся в авиаподдержке. К этому времени, помимо обычных боевых действий по «чистке» провинций и возвращению их под власть Кабула – занятию столь же регулярному, как и безнадежному – вошли в обиход удары по базам и базовым районам, на которые стали опираться «полки» и «фронты», объединявшие под началом крупных полевых командиров прежние разрозненные банды. Различались базы, служившие опорой одному формированию, перевалочные базы и пункты, с которых шла отгрузка оружия и отправка караванов, и крупные базовые районы, включавшие штабы, склады, оружейные и патронные мастерские, узлы связи и учебные центры. Местами для них служили труднодоступные ущелья, затерянные в горах. Характеризуя качественные перемены, аналитическая записка Управления боевой подготовки Сухопутных войск еще в октябре 1984 г. обращала внимание на появление объектов, которые «мятежники готовят к упорной обороне в инженерном отношении». Наиболее надежным средством их поражения становилась авиация. Однако «булавочные уколы» ВВС 40-й А, вынужденных действовать на значительном удалении от баз, должного успеха не давали: на такое расстояние истребители и штурмовики Баграма могли, в лучшем случае, доставить пару бомб, причем из-за трудностей со снабжением время от времени штаб вынужден был даже вводить ограничения, обязывая подвешивать «за раз» только по одной бомбе !(Впрочем, к тому времени весь боевой груз обычно сбрасывали в первом заходе, и результат удара больше зависел от его точности, чем от количества бомб.) К тому же, фугасной мощи предельных для них «пятисоток» не хватало для разрушения укрытий, нередко вырубленных в цельной скале или залитых бетоном. Любопытно, что некоторые пещеры не удалось подорвать даже саперам – заложенные заряды не смогли обрушить своды, и взрывы лишь «вычистили» их словно под метелку. Защищенные цели требовали должных мер воздействия, и тут подходящими оказались те самые авиабомбы крупных калибров. Фугасный удар сверху вызывал сотрясения, растрескивание и обрушение камня, заваливавшего пещеры, а обвалы засыпали их входы. Бомбометание по склонам давало впечатляющий эффект: сход сотен тонн камней хоронил устья пещер и подходы к ним, на дно ущелий валились карнизы, немногочисленные дороги и тропы упирались в нагромождения скальных глыб, и на поиск обходных путей противнику приходилось тратить недели. Чтобы мощь взрыва не расходовалась впустую на поверхности, взрыватели выставлялись на срабатывание с замедлением, дававшим бомбе углубиться и взорваться в толще горы. Обычно применялись электрические взрыватели АВУ-Э и АВ-139Э, специально предназначенные для бомб большого калибра и высотного бомбометания. Они отличались повышенной безопасностью – окончательное взведение происходило лишь через 18-23 с после отделения от самолета. , Особо выгодным оказалось применение специальных толстостенных ФАБ-1500-2600ТС. Несмотря на «полуторный» калибр, они имели действительную массу более 2,5 т, а прочная литая «голова» десятисантиметровой толщины (против 18-мм стенок у обычной ФАБ-1500), подобно тарану, позволяла уйти в глубь скалы. Тем самым 469 кг ее содержимого давали больший эффект, чем 675 кг ВВ «полуторок» типов М-46 и М-54 (к тому же, начинявший «тээску» тротилгексоген ТГАС-5 обладал полуторным эквивалентом по сравнению с тротилом в остальных крупнокалиберных бомбах). Трехтонные бомбы моделей М-46 и М-54 содержали по 1400 и 1387 кг тротила, пятитонная ФАБ-5000М-54 – 2207,6 кг, а девятитонная ФАБ-9000М-54 – 4297 кг. Боеприпасы модели 1950 г. к середине 80-х уже сняли с вооружения, как и бронебойные монстры БрАБ-3000 и -6000, которые могли бы здесь пригодиться. Ту-22М3 из 185-го Гв.ТБАП наносят удар ФАБ-3000М54 Командир отряда 185-го Гв.ТБДП м-р В.И.Бандюков в кабине своего "Бэкфайра". Мары-2, ноябрь 1988 г. Каждая звездочка на борту дальних бомбардировщиков означала боевой вылет В налетах приняли участие Ту-16 251-го Гв. Краснознаменного ТБАП, перебазировавшиеся в Мары из Белой Церкви. В те летние месяцы ярко проявилось такое достоинство ДА, как независимость от «сезонных» проблем, из-за которых боевая нагрузка самолетов ФА зависела не столько от задачи, сколько от времени года. Жара иной раз даже не давала оторвать «перегруженную» парой бомб машину от земли – свежим (июньским) подтверждением этого стал «разложенный» на взлете в Баграме Су-17. А Ту-16 с загруженными «под завязку» бомбоотсеками и с половинной заправкой без проблем могли накрыть всю территорию Афганистана. Зенитный огонь для бомбивших с высоты «дальников» угрозы не представлял, но опасения внушало появление у Пакистана новейших F-16, уже успевших «отметиться» атакой в мае двух афганских самолетов. Поэтому боевые вылеты Ту-16 прикрывали МиГ-21бис 115-го Гв.ИАП из Кокайты, с которыми оказался связан единственный за весь «заезд» инцидент. Кормовой стрелок одной из «тушек», прапорщик Н.Слипчук, известный в полку как романтик и поэт, вдруг принял догонявшие их истребители за вражеские и, не раздумывая, открыл огонь. Пальба длилась полминуты, которой хватило, чтобы одной длинной очередью высадить весь боекомплект в 1000 снарядов. Истребители шарахнулись в стороны от трасс, но подготовка стрелка, к счастью, оставляла желать лучшего, и весь ущерб свелся к замене «расстрелянных» пушечных стволов (нормальная по перегреву и износу очередь не должна превышать 200-300 патронов). Наиболее масштабным стало использование Дальней авиации «под занавес», в последние месяцы войны. За помощью к «дальникам» обратились в октябре 1988 г., с началом завершающего этапа вывода войск, когда ожидалась активизация действий противника: напоследок многие лидеры оппозиции угрожали особо болезненными ударами, не только в привычной манере бить в спину, но и набирая очки в преддверии будущей борьбы за власть. Другие же вожаки видели в уходе советских войск возможность без помех «разобраться» с Кабулом, а заодно разрешить противоречия между собой, и они охотно шли на подписание «пактов о ненападении» с 40-й А. Отголоском перемен становилось мало-помалу выходившее из употребления слово «мятежники», что подтверждало известное: «Мятеж не может кончиться удачей – в противном случае его зовут иначе». Мирные договоренности с моджахедами, в чем руководство ОКСВ имело известный опыт, позволяли беспрепятственно выводить войска, однако «сверху» пути домой виделись иначе. И все же позиция штаба генерала Б.В.Громова и руководства оперативной группы МО СССР во главе с генералом армии В. И. Варенниковым ощутимо сказалась на организации вывода и работе привлеченных авиационных сил. К осени 1988 г. часть ВВС 40-й Армии (до 45%) уже покинула ДРА. Для компенсации, наряду с другими силами, к концу октября была сформирована отдельная группа Дальней авиации, прикомандированная к ВВС САВО (ТуркВО к этому времени был ликвидирован, но штаб объединенного округа и КП ВВС разместились в Ташкенте). Основной задачей группы назначалось прикрытие выводимых частей и мест дислокации упреждающими ударами по районам развертывания огневых средств оппозиции, а также срыв обстрелов крупных городов, нанесение ударов по базам и складам, поддержка афганских войск в блокированных гарнизонах, призванная «исключить политические деформации в оставленных районах страны». ФАБ-1500 рвутся в «зеленке» В группу включили самолеты и экипажи гвардейских частей ДА: эскадрилью Ту-16 251-гоГв.ТБАП из Белой Церквии две эскадрильи Ту-22М3 из полтавского 185-го Гв.ТБАП. Их разместили на двух близлежащих аэродромах Мары-1 и Мары-2 – единственных свободных к тому. времени, пусть и лежащих дальше от, цели, чем приграничные базы (для «дальников» разница в 200-300 км не была существенной). В Мары-1, где находилась. 1521-я авиабаза истребителей МиГ-23 и МиГ-29, «подыгрывавших» за противника при подготовке летчиков ИА, разместили 11 Ту-16 – три отряда и две машины группы управления. По другую сторону ВПП располагался местный аэропорт, что послужило еще одной причиной разделения группы Дальней авиации: Мары-1 задействовали для приема «транспортников» с выводившимися войсками, туда приглашены были представители ООН, и грозно выглядевшие «Бэкфайры» плохо вписывались в представления западных дипломатов о выполнении Женевских соглашений. Ту-16, изо дня в день методично выруливавшие на старт, привлекали меньше внимания, занимаясь «плановой боевой учебой». «Тушки» из Белой Церкви имели солидный возраст – почти все они начали службу еще в начале шестидесятых и были ровесниками своих летчиков. В отличие от направлявшихся в ВВС 40-й А, которых старались подбирать по квалификации не ниже 1-2 классов, методика работы «дальников» позволила привлечь практически весь летный состав, минуя какую-либо специальную подготовку. То же относилось и к машинам, не подвергшихся никаким доработкам: для того, чтобы «брать и кидать», возможностей ветерана Дальней авиации вполне хватало. К 1988 г. Ту-16 оставались единственными самолетами, способными нести ФАБ-9000, и это достоинство было наконец-то востребовано. Не обошлось и без проблем: дома никому не приходилось иметь дело с бомбами-монстрами, для размещения которых в грузоотсеке монтировалось целое сооружение – мостовой держатель БД-6 с массивными балками и подкосами. Перевозка «девятитонки» требовала персонального, транспорта – тележки БТ-6, сдвинуть которую с места могли усилия нескольких десятков человек. Громоздкое оборудование с непривычки при одной из первых попыток подвесить бомбу привело ктому, что пошедшая с перекосом ФАБ-9000 застряла в отсеке и едва не ухнула вниз. Оружейники бросились врассыпную и только со второго раза сумели водворить на место непокорную бомбу. «Девятитонки» были основным грузом, но время от времени использовались и бомбы меньших калибров, вплоть до «россыпи» ФАБ-250, которых брали по 24. Такие отличия в загрузке объяснялись не столько тактической необходимостью, сколько перерывами в подвозе, «подчищавшем» склады по всей стране. Многие цели лежали в окрестностях Кандагара и Джелалабада, уже оставленных советскими войсками. Бомбардировки тут носили характер противовеса беспрерывным обстрелам и вылазкам, тем более, что надеяться на активные действия правительственных гарнизонов не приходилось. Это сказывалось и на характере работы «дальников», большей частью не представлявших себе объекты ударов, различая их лишь географически. По возвращении на вопросы о том, какие цели бомбили, отделывались словами: «Те, что указали». Вылеты в «дальние углы» занимали 3,5-4 часа. Ввиду того, что работать приходилось у самой пакистанской границы, а надеяться на собственное вооружение и средства пассивной обороны не приходилось (Ту-16 не оборудовались ИК-ловушками, обязательными в афганском небе, имея лишь «сеялки» дипольных ленточек для помех РЛС), каждый вылет сопровождался истребительным прикрытием, причем из-за продолжительности рейдов эскорт был сменным. Провожали и встречали группу соседские МиГ-29, иногда для этого привлекалось дежурное звено Су-17МЗ из Мары-2. Подтверждая свое отчасти истребительное назначение, Су-17 несли пару ракет Р-60 и баки ПТБ-800, позволявшие сопровождать бомбардировщики над севером ДРА. Ближе к цели эстафету принимали МиГ-23МЛД из 120-го ИАП в Баграме. На бомбардировку постоянно направлялся один отряд из трех Ту-16. Вылеты обычно назначались с утра, причем к цели шли без использования радиоприцела РБП-4, «подслеповатого» и бесполезного над горами, где не было четких радиолокационных ориентиров (прибор тридцатилетнего возраста был способен в теории обнаружить объекты со 150-180 км, но лишь если они хорошо выделялись на фоне местности, и годился, как говорили, «чтобы заметить небоскребы и статую Свободы»). На маршруте обходились штурманским расчетом с использованием АРК-5 и ДИСС «Трасса», почти постоянным был и режим полета: высота 10-11 тыс. м и скорость 850 км/ч. С выходом на цель бомбометание вел штурман, использовавший оптический прицел ОПБ-11Р. Иногда Ту-16 привлекали к ночным ударам, при этом местность подсвечивали САБ с Су-17. Однажды контролировать результаты удара послали вертолеты, но они не обнаружили и следов цели – мощный обвал похоронил не только сам объект, но и весь прежний рельеф. Другой раз «подчищать» район бомбежки в зеленой зоне вылетели десантники. По возвращении они докладывали: «Охоту воевать вы там надолго отбили». Не обошлось и без промахов – неизбежных спутников высотного бомбометания, при котором нормальным считалось рассеивание порядка 300-500 м: разрывы «девятитонок» легли слишком близко к блокпосту под Кабулом и привели к контузиям дежуривших там бойцов, некоторые из которых лишились слуха. Всего за три месяца работы Ту-16 сбросили 289 бомб ФАБ-9000М-54. Самим летчикам «прикрышка» и высота полета, позволявшая не бояться огня с земли, внушали уверенность и делали вылеты рутинным делом. Работу облегчала организация ее «вахтовым методом»: часть экипажей время от времени улетала домой на отдых, а их подменяли другие, так что участие в войне для них ограничивалось 15-20 боевыми вылетами. Хлопот доставляли сами «очень не новые» машины, на которых постоянно случались мелкие отказы и поломки, из-за чего на вылеты привлекались самолеты по мере их исправности. К чести старого, но крепкого Ту-16 даже при отказах в воздухе удавалось выполнять задачу, а неисправности экипажи старались устранить прямо в полете (достоинство «пожилой» и не оченьсложной техники). Кабина «тушки» позволяла добраться ко многим агрегатам и этажеркам оборудования, во всехуглах на всякий случай громоздились всевозможные мелкиезапчасти, крепеж, хомуты, контровка и прочее, а члены экипажа рассовывали по карманам отвертки и пассатижи. Дойти до цели не помешало даже серьезное происшествие, случившееся в январе 1989 г. с Ту-16 к-на Е.Поморова. На самолете, несшем ФАБ-9000, на высоте 10100 м сорвало носовой блистер. В кабину бомбардировщика, шедшего со скоростью 850 км/ч, ворвался бешеный вихрь. Внутри температура упала до забортной – 50°С, и ударило по ушам разрежение. Хуже всех пришлось штурману к-ну Лылову, оказавшемуся прямо под леденящим потоком. Оставалось только благодарить меховые летные куртки и шлемофоны с очками «ретро», сохранявшиеся в экипировке экипажей Ту-16. На случай разгерметизации инструкция предписывала немедленное снижение, но до цели оставалось всего 15 минут, и командир продолжал удерживать самолет на эшелоне и курсе. Экипаж отбомбился, хоть и не особенно прицельно (под бушевавшим в кабине ветром было не до этого) и благополучно дотянул домой. За этот вылет к-н Поморов получил орден Красной Звезды, а остальные члены экипажа – медали «За боевые заслуги». Ту-22МЗ полтавского полка обосновались в Мары-2, где базировался 156-й АПИБ на Су-17МЗ, в то время получивший передышку от почти беспрерывной работы в афганской кампании. Привлечение полтавчан для боевого дебюта новых бомбардировщиков обосновывалось тем, что 185-й Гв.ТБАП был лидерным в освоении машины и имел наибольший опыт ее эксплуатации, включая полеты на дальние полигоны с практическим бомбометанием. Появление «троек» означало качественно новый уровень «афганской» группировки ВВС. Новые машины имели совершенный навигационный комплекс НК-45 и прицельно-навигационную аппаратуру, дававшую точный выход на цели и бомбометание, качественное радиосвязное оборудование и внушительный ассортимент боевой нагрузки. Хотя грузоотсек Ту-22М3 не был рассчитан на бомбы крупнее трехтонных, общая масса груза могла достигать 24 т. Для работы из Мары были избраны более умеренные варианты, не превышавшие 12 т, по соображениям сохранения «летучести». ФАБ-1500 и ФАБ-3000 готовы к подвеске на самолеты 28 октября в Мары-2 из Полтавы перелетели две эскадрильи по 8 самолетов вместе с руководством полка – командиром п-ком В.И.Никитиным, его замами п/п-ками Паршиным и Андросовым и штурманом полка А.Н.Либенковым. Эскадрильи вели комэск-1 п/п-к Р.Н.Саберов и комэск-2п/п-кИ.П.Дегтерев.Таккакполк имел «тройки» самых первых серий (оборотная сторона лидерной эксплуатации), уступавшие более новым машинам, и в их числе были самолеты, еще не оборудованные ИК-ловушками, два Ту-22МЗ последней серии позаимствовали у 402-го ТБАП из Орши. С помощью Ил-76 и Ан-12 в Мары перебросили техсостав, необходимое имущество и сменных летчиков (всего к работе привлекли 21 экипаж). Уже 31 октября состоялся первый вылет. Как и в двух последующих, цели располагались у Кандагара – в горном массиве на севере и «зеленке» на юге вдоль реки Дори, где находились отряды, блокировавшие дороги к городу. 3 ноября бомбы легли в окрестностях кандагарской авиабазы, откуда велся ее обстрел. На следующий день целью стал городок Джалез, лежавший в выгодном для душманов месте – ущелье с выходом прямо к Кабулу. С ближайших гор открывалась панорама столицы, а рядом проходила трасса на юг. Всю следующую неделю бомбардировки велись в северо-восточном секторе вокруг Кабула, где сосредоточивались пусковые установки, осыпавшие город ракетами. Без обстрелов обходился редкий день – Кабул оставался центром устремлений отрядов самой разной принадлежности, причем не только из тактических соображений, но больше как средство заявить о себе. Обстрелять столицу, выпустив в ее сторону хотя бы несколько снарядов, было делом престижа. Беспокоящий огонь поначалу не приносил особого вреда, но постепенно набирал силу: если за 1987 г. в городе упали 147 ракет, убив 14 жителей, то в 1988 г. число ракет возросло до 635, а жертв – до 233. Даже неприцельные пуски рано или поздно находили цели: 26 июня 1988 г. попадание одной ракеты по кабульскому аэропорту превратило в костер стоянку Су-25, оставив от 8 штурмовиков только обломки. 14 ноября под аккомпанемент разрывов пришлось взлетать Ту-154 с советской правительственной комиссией, этот же обстрел поразил жилой модуль авиаторов 50-го ОСАП, похоронив в нем 11 человек. Для ответа привлекли «дальников», уже через полчаса вылетевших по тревоге. После вечерней бомбардировки удары по «душманскому кольцу» вокруг Кабула продолжались следующие две недели, приходясь преимущественно на окрестные горные плато и хребты, откуда с блокпостов отмечали пуски, а также по разведанным складам и хранилищам ракет. Охота за ракетчиками была не очень успешной: пусковые установки часто стояли на автомобилях и тут же меняли позиции, еще чаще использовались примитивные одноразовые направляющие с часовым механизмом. В итоге всей работы 185-го полка разведотдел 40-й Армии на его счет отнес всего 6 машин, 4 ПУ и 340 реактивных снарядов. Ту-22МЗ из 185-го Гв.ТБДП уходят с аэродрома Мары-2 на боевое задание В конце ноября выполнили два вылета на цели у Файзабада, выделявшиеся на общем фоне – бомбардировке вновь подверглись копи лазуритов и изумрудов во владениях Масуда (к слову, эти цели были единственными, которые с натяжкой можно отнести к оговоренным боевым уставом Дальней авиации, как «оперативные и стратегические резервы»: всех прочих он попросту не предусматривал). Окрестности Кабула изо дня в день обрабатывались и местной авиацией. Однажды вылеты ДА и штурмовиков Баграма совпали по времени и месту, и уже на боевом курсе в прицеле одного из бомбардировщиков вдруг обнаружился круживший внизу Су-25. Его успели отогнать по радио, ведь близкие разрывы мощных бомб могли задеть «грача» если не ударной волной, то осколками, разлетавшимися на двухкилометровую высоту и «парившими» в воздухе без малого минуту. После нескольких бомбардировок с использованием ФАБ-500 от них отказались, перейдя на более крупный калибр, позволявший более полно использовать возможности машин (другой причиной была хлопотность снаряжения и подвески сотен таких бомб в каждую смену). Типовыми вариантами стали две ФАБ-3000 или восемь ФАБ-1500, при этом направлявшуюся на одну цель группу старались загружать однотипно, чтобы разница в подвеске не затрудняла полет в строю. Часть бомб снаряжали специальными взрывателями АВПЗ на минирование с самоликвидацией в течение 6 суток. Полутора– и трехтонные «мины» закладывались в районах активности противника, причем разрядить их (отмечались случаи, когда душманы сами использовали неразорвавшиеся бомбы в качестве фугасов) не давала ловушка, реагировавшая на попытку вывернуть взрыватель или оттащить бомбу. С самолетов сразу же сняли ненужные внешние многозамковые МБДЗ-У9-68, хотя ракетные пилоны продолжали оставаться под крыльями еще месяц (демонтировать их было трудно, да и просто за каждодневной работой не доходили руки). Группа управления полка, участвуя в боевых вылетах, сумела наладить эффективную работу. С вечера по звонку из Ташкента разбирали карты, и к получению боевого приказа экипажи уже были в готовности. Самолеты ожидали их полностью снаряженными, сразу после предыдущего вылета получая «дежурную» зарядку бомб и заправку в 40 т керосина, позволявшую отработать по любым целям. Построение боевого порядка и заход на цель отрабатывали «пеший по-летному», разрисовав их мелом на асфальте. В полете пользовались картами 10-км масштаба, а над местом удара ориентировались по более детальным «двухкилометровкам» и «полукилометровкам», загодя тщательно изучив каждую горушку на планшете. Вылеты проводились силами восьмерки Ту-22МЗ. Поэскадрильно назначались и цели, иногда дробившиеся по четверкам и парам. Обычно они были групповыми и находились в 500-1000 м одна от другой. Иногда наудар посылали сразу две эскадрильи. Уходившие на задание самолеты выруливали все сразу, выстраиваясь перед стартом и начиная разбег сразу по отрыву ведущего. Этим достигался быстрый взлет, за которым уже на развороте вокруг аэродрома группа собиралась сомкнутым строем и шла на цель колонной пар со 150-м превышением ведомых, 10-секундным интервалом между парами и 40-секундным – между звеньями. ОФАБ-250 в грузоотсеке «ТУ-двадцать второго» По маршруту держали скорость 900 км/ч, первое время на высоте 7200-7800 м. После предупреждения об опасности пусков ПЗРК с горных вершин эшелоны подняли до 9000-9600 м, прокладывая путь в обход высоких пиков. Опасность не была преувеличенной: го-дом ранее было отмечено поражение ПЗРК Су-17М3Р, шедшего на высоте 7000 м, причем пуск с вершины подтвердил находившийся в банде агент ХАД. Сразу после начала работы и сами «дальники» наблюдали пуск. П/п-ку Р.Саберову он запомнился как «пыльное облачко на склоне, струйка возмущенного воздуха вверх и вспышка ракеты, ушедшей на самоликвидацию». Вылеты каждый день начинались по плану, в 10 часов утра, однако экипажи стали замечать то и дело поднимавшиеся по пути столбы дыма, видимо, предупреждавшие противника. Время стали менять, но большинство вылетов оставались дневными. Полет на удаление 800-1000 км проходил без особых проблем: навигационный комплекс НК-45 с цифровой машиной ЦВМ-10ТС-45 обеспечивал выход к цели с точностью порядка сотен метров, а автоматика бортовой системы управления была способна провести самолет по маршруту и завести на посадку. Работу штурмана упрощала непрерывная индикация положения на подвижной карте планшета ПА-3. С выходом в назначенный квадрат на помощь штурману-оператору подключался весь экипаж, высматривая цель. Для атаки группа рассыпалась, и каждый прицеливался индивидуально с помощью телевизионного прицела ОПБ-15Т, дававшего картинку с высокой разрешающей способностью. Управление самолетом при этом переходило к штурману, а сброс следовал в автоматическом режиме. Точность бомбометания достигалась впечатляющая: бывало, на спор штурманы укладывали бомбы в отдельное строение или дувал. Чаще, однако, разрывами накрывали указанный квадрат. Летчики не склонны были особо разбираться в типе цели – они получали задачи и выполняли работу, а пыльные грибы разрывов одинаково вспухали среди черточек дувалов, на дорогах и у безлюдных барханов. На вопросы заглянувшего в Мары столичного корреспондента, допытывавшегося об ощущениях при бомбардировках, летчики отделывались словами: «Если что не так – не наше дело, как говорится – Родина велела», а то и откровенно посылали его подальше. Командующий ДА ген.-л-т П.С.Дейнекин (справа) инспектирует работу подчиненных. Мары-2, ноябрь 1988 г. Оружейники 185-го ТБАП готовят к подвеске ФАБ-1500 Бомбы исправно сбрасывали, даже если в указанных районах на многие километры вокруг не просматривалось ни единого селения, в прицелах проплывали лишь горы и пустыня. Сомнительно, чтобы такое расходование боеприпасов объяснялось промахами разведки – на фотопланшетах цели также отсутствовали. Одной из мотиваций подобных ударов был их предупредительный характер для окрестного населения: уходившая из-под ног земля и рушащиеся скалы наглядно показывали, что ожидает особо беспокойных. По доходившим слухам, штаб 40-й А, подчиняясь продиктованным большой политикой приказам «сверху» не прекращать бомбардировки, таким образом все же отводил удары от «договорных» селений и группировок. Скорее всего, это касалось и Масуда, добросовестно соблюдавшего условия перемирия. Уже после войны генерал-лейтенант Громов произнес на первый взгляд удивительные слова: «Даже в периоды жесткой конфронтации… мы не стремились разбить его банды, а самого Ахмад Шаха уничтожить физически». Однако все логично: после разгрома отрядов «панджшерского льва» их место заняли бы формирования «непримиримых». Война все же продолжалась, и принимались необходимые тактические меры: заход на цель для внезапности строили чуть в сторону, затем в 4-5 минутах от точки сброса резко доворачивали, избавляясь от груза за один заход. Не задерживаясь над местом удара, на отходе смыкали строй и разом увеличивали скорость, держа курс на Термез. Обратно обычно шли на форсаже, разгоняясь до М=1,7, причем многие удовлетворенно замечали, что «только на войне иудалось вдоволь налетаться на сверхзвуке» (дома преодолевать звуковой барьер позволялось далеко не всегда и на высоте не ниже 11000 м). Истребительное прикрытие, сопровождавшее группу во всех вылетах, при этом не поспевало за Ту-22МЗ. Несшие бак и ракеты МиГ-23 имели ограничения по скорости и не могли угнаться за «дальниками», из-за чего в эфире можно было слышать просьбы «прикрышки»: «Большой, не гони лошадей, я отстаю!» В боевых порядках шли и постановщики помех Ту-22ПД, дополнявшие работу собственных бортовых комплексов обороны «троек». Три Ту-22ПД из 341-го ТБАП под началом п/п-ка В.Мельника, приданные группе Дальней авиации, базировались вместе с полтавчанами. Их задачей был срыв возможных пусков пакистанских ракет ЗРК «Кроталь» и, особенно, атак F-16. При работе у границы эту опасность необходимо было учитывать, так как после сброса требовалось осуществить фотоконтроль результатов бортовыми АФА-42/20 и 42/100, для чего самолет приходилось не менее минуты удерживать на прямой, и лишние 15-20 км не раз выводили к самой «ленточке». Напряженности в кабине добавляла чувствительная СПО-15 «Береза», тревожным писком то и дело реагировавшая на все подряд, будь то работа ПНА соседних самолетов, излучение прицелов «прикрышки» или мощные помехи «шумовиков». Использование ИК-ловушек «дальниками» отличалось от принятой методики ФА, где летчики с выходом из атаки сразу отключали отстрел. Ту-22МЗ на отходе от цели начинали сыпать килограммовые ловушки ЛО-43 (каждый нес по 48 патронов), а замыкающие открывали стрельбу из кормовых пушек специальными снарядами ПРЛС сдипольной «лапшой» и излучающими тепло ПИКС. От снарядов, однако, вскоре отказались, экономя время на набивке лент и хлопотной замене патронных коробов, которые нужно было водружать на пятиметровую высоту. Пакистанские истребители и без того имели немного шансов атаковать набиравшие скорость «тройки», а шлейф полыхающих шаров и трасс служил заслоном от пусков вдогон. «На всякий пожарный» летчикам выдавали в полет АКС-74У, гранаты и пару пистолетов, а в перебранный НАЗ катапультных кресел вместо пайка и бесполезной спасательной лодки укладывали фляги с водой и магазины к оружию (как шутили, «для полного комплекта там не хватает только халата и тюбетейки»). Даже в пути на аэродром летчиков каждый раз сопровождал автоматчик для защиты от возможных диверсий. Мера предосторожности была не лишней: в соседнем Карши на аэродроме задержали солдата-таджика, выкручивавшего из бомб взрыватели, чтобы подсобить единоверцам. На Ту-22МЗ (борт 74) из 132-го ТБАП несколько боевых вылетов выполнил ген.-м-р Д.М.Дудаев Несколько вылетов под конец выполнили по ночам, однажды пришлось бомбить сквозь закрывавшую цель плотную облачность. При этом, помимо инерциальных гироплатформ НК-45 и ПНА, использовалась автоматическая система дальней навигации А-713, определявшая положение по наземным радиомаякам (с ее помощью часто проверяли штурманский расчет и при полетах в нормальных условиях). Система давала высокую точность, «до размаха», однако бомбометание с ее помощью требовало хорошей слаженности в экипаже, где командир должен был выполнять довороты по командам штурмана, учитывающего все навязки и поправки, а оператор вести контроль. Отказов было немного, хотя «тройка» считалась довольно капризной машиной, в основном, по части сложного электрооборудования и электроники. Однажды из-за падения давления масла пришлось отключить двигатель на самолете м-ра П.Андросова и возвращаться на оставшемся. В другой раз самолет, садившийся в налетевшую пыльную бурю (знаменитый «афганец»), начало сносить ветром, и летчик «приложил» машину о полосу с двукратной перегрузкой. «Крайние» вылеты, пришедшиеся на 3,4 и 5 декабря, полтавчане выполнили под Кандагар: аэродромы ВВС 40-й Армии были закрыты по погоде, а афганский гарнизон затребовал срочную помощь. По итогам командировки командир 185-го Гв.ТБАП В.Никитин, выполнивший полтора десятка боевых вылетов, получил орден Боевого Красного Знамени, такие же награды вручили п/п-ку А.Либенкову и обоим комэскам – Р.Саберову и И.Дегтереву. Командиров экипажей и летчиков наградили орденами Красной Звезды, на долю штурманов выделили «За боевые заслуги». В рейде 5 декабря приняли участие прибывшие на смену полтавчанам «дальники» из Орши, а 7 декабря на экипажи и машины 402-го ТБАП, которыми командовал п/п-к Янин, лег весь объем боевой работы. Группа из Орши насчитывала те же две эскадрильи по 8 Ту-22МЗ и еще один запасной самолет для поддержания наряда сил на случай отказов и поломок. В ее составе остались и одолженные полтавчанам два бомбардировщика, которым предстояло отработать второй срок (на одном из них всего было выполнено 35 боевых вылетов – наибольшее число среди всех «троек»). 402-й ТБАП продолжил ту же работу, мало изменилась и «география» целей. Вместе с тем зимняя непогода привела к более частому использованию «слепых» способов бомбометания. Наиболее надежной оставалась бомбардировка с помощью навигационной системы, которая, используя данные работавшего в режиме обзора радиолокатора, выдавала в нужный момент команду «Гром» – сигнал к сбросу. Постепенно вылеты все чаще стали выполнять в ночное время, нанося беспокоящие удары. При этом обстановка не позволяла использовать связанный с НК-45 радиолокатор ПНА для бомбометания: заваленные снегом горы выглядели «ровными’, не было среди целей и крупных строений,мостов или скоплений техники. Иногда практиковался сброс по вынесенному радиолокационному ориентиру, если поблизости находился характерный контрастный объект (обычно им служили излучина реки или плотины Суруби и Дарунта на востоке от Кабула), по которому уточнялись курсовой угол и дальность. Несколько раз под Кабулом пробовали бомбить по командам наводчиков, располагавших «балалайками» – угломерно-дальномерными автоматическими радиомаяками. Особого успеха эта методика не давала из-за невысокой точности удара. Да и сама тактика Дальней авиации, предполагавшая сброс груза за один заход, не подходила для целеуказания сземли, когда наводчик и летчики понимают друг друга с полуслова и поправляют удары. Практически во всех вылетах бомбили ФАБ-3000, лишь один раз сделав исключение и уложив на минирование в горах «полуторки». Повышенный расход тяжелых бомб даже заставил их заказывать у промышленности дополнительно. Ту-22М3 работали в плотных боевых порядках При ночных вылетах, соблюдая светомаскировку, отключали БАНО, оставляя лишь видимые сверху неяркие строевые огни и подсвечивая кабину «мышонком»-фонарем красного света по правому борту. Если и случались промахи, то из удаленных районов рекламаций не приходило. Лишь один из вылетов закончился скандалом, когда в ходе бомбардировки у Кандагара в декабре одна из сброшенных бомб упала рядом со штабом афганского 2-го армейского корпуса, а другая разорвалась прямо в жилом квартале, убив несколько десятков человек. Генерал-губернатор провинции Н.Олюми прилетел с жалобой, и в Мары прибыла совместная комиссия генерала В.Афанасьева и афганца Кадыра. На душманский обстрел инцидент списать не удалось – на месте взрывов подобрали осколки тяжелых бомб, которыми там работали только «дальники» (хотя в деле фигурировали «бомбы двухтонного калибра», не существующие на вооружении). В конце концов историю замяли, не став доискиваться виноватых, отчасти и потому, что использование Дальней авиации не афишировали и выдавались за бомбардировки афганской авиации. В единичных случаях, помимо координат и квадратов, конкретно говорилось о характере цели. В субботу 7 января над ущельем Джанез у Кабула был сбит Су-25, с ним погиб и летчик (это была последняя потеря штурмовиков в афганской войне). В ответ тяжелыми бомбами был накрыт весь район вокруг места падения. Через месяц, 8 февраля, два афганских экипажа, захватив с собой семьи, улетели на своих Ми-8 в Панджшер. Охота за угнанными вертолетами, севшими после выработки топлива в одном из ущелий, продолжалась три дня. К ней привлекли и Ту-22МЗ, без особого успеха искавших вертолеты сквозь «окна» в облачности, но окончательно разбомбить их удалось только Су-25. В одном из вылетов прямо под строем Ту-22МЗ оказался рейсовый «Боинг», шедший куда-то на восток. По словам штурмана ст.л-та С.А.Новикова, «мы обо всех их воздушных коридорах задумывались мало, соблюдая только эшелоны по высоте, чтобы не столкнуться. «Боинг» шел себе своим курсом, вылез прямо под нос на догоне и неспешно выплыл на экране ОПБ-15Т, когда уже открыты были створки грузоотсека. Кажется, это был индус – весь разукрашенный, огни горят, разноцветные, как на елке. Может, нарочно хотел поближе рассмотреть военных, но из-за него пришлось задержаться со сбросом – внизу все равно были горы, не по одной попадем, так подругой». Постановщики помех Ту-22ПД прикрывали ударные группы во время налетов на приграничные с Пакистаном районы Однако «щадящий режим» бомбардировки безлюдных равнин и гор продолжался недолго. В центральных районах остававшиеся части 40-й Армии вновь сконцентрировались рядом с владениями Масуда, который, по донесению генерала Варенникова, тем не менее «категорически запретил своим формированиям вести боевые действия против советских войск, что ими неукоснительно соблюдается». Однако высшее руководство СССР открыто обвинило военных в нежелании разгромить противника, после чего последовало жесткое указание готовить новый удар по Панджшеру. На месте все же удалось избрать компромиссное решение, и в середине декабря бомбардировкам подверглись не позиции Масуда и селения в долине, а отдаленный район Коран-о-Мунджан с лазуритовыми рудниками. Но к Новому году налеты прекратили, и намек с воздуха остался половинчатым. ОКСВ предстоял последний шагдомой, и этот путь вел через Чарикар и Саланг, контролируемые «армией Панджшера». 6 января налеты возобновились, а 10 числа в Афганистан прилетела советская правительственная группа, после чего поступил приказ осуществить операцию «Тайфун», ставшую последним аккордом войны. Особая заслуга в этом принадлежала Кабулу, по словам советников, «проявлявшему неуемную настойчивость» в стараниях нанести противнику урон силами уходящей армии. Играя в политику, Наджибулла убеждал Москву в намерениях Масуда «сдать 14 северных провинций страны американцам» (их всего насчитывалось 12). Ту-22ПД из 341-го ТБДП через два с половиной года после окончания афганской эпопеи. Озерное, 1991 г. Рассчитанная на три дня операция должна была начаться 24 января, но в последний момент было приказано «не тянуть», и удары начались на сутки раньше, причем политработникам ставилась задача «разоблачения преступной позиции, которую занял Ахмад Шах». Бомбардировки прошли по Панджшеру еще и в предыдущие дни, но во время операции они стали безостановочными. Вывод войск был остановлен, чтобы артиллерия и бомбардировщики могли беспрепятственно работать по придорожным районам. Досталось и кишлакам, причем в те дни бомбардировщики не ограничивались одним вылетом в смену. Однако противник в который раз ушел из-под бомбежки. Ответного огня, по сути, не было, и за время «Тайфуна» потери ограничились тремя погибшими солдатами. С воздуха нельзя было оценить преподносившиеся в сводках успехи, но продолжившие путь к перевалу войска провожали сотни тел погибших мир-ных жителей, вынесенных к дороге. Дальняя авиация продолжала работу с прежним темпом, хотя боевые вылеты летчикам не засчитывались, лишь позднее в личных делах появились записи об «участии в боевых действиях в ДРА с территории СССР». Вместе с тем летному составу исправно начислялись «премиальные» – определенные с бухгалтерской точностью 11 руб. 78 коп. «за боевые сутки», на которые выпадала работа, независимо от количества вылетов. Вместе с командировочной «трешкой» так набегала ощутимая сумма, составлявшая за месяц без малого еще одну получку. Она была вполне заслуженной: летную работу и без того относят к категории тяжелых, а в тесных кабинах бомбардировщиков особенно. Кресла КТ-1 неотличались удобством, на рабочих местах было не разогнуться, и занимавшие более двух часов полеты порядком изматывали людей. Тягот прибавила морозная зима – кое-как приспособленное местное жилье толком не отапливалось, и люди даже спали в зимнем обмундировании, а то и в обуви. Населению военного городка тоже приходилось несладко – выруливая на старт, бомбардировщики разворачивались хвостами в его сторону и начинали предписанную регламентом трехминутную газовку двигателей. Двадцатипятитонная тяга НК-25 вздымала тучи песка и пыли, смешанные с керосиновым чадом, которые накрывали поселок. Работа тяжелых воздушных кораблей сказалась на состоянии рулежек и полосы, и без того не очень подходивших для них (ширина ВПП в Мары-2 была намного уже привычной – 44 вместо 100м). Порядком изношенное бетонное покрытие не могло выдержать нагрузок и за несколько месяцев было буквально раскатано колесами и газовыми струями стотонных «Бэкфайров», покрывшись трещинами и выбоинами. В одну из них попал носовой стойкой шасси самолет Янина, повредил опору, и этот день стал единственным, когда вылет пришлось отменить. Ту-22М3 из Орши во время выполнения регламентных работ сразу по возвращении из афганской командировки С приходом сырой погоды участились неполадки бортовой электроники. Из-за сбоев и отказов в работе двигателей по вине системы управления дважды пришлось отключать их в воздухе на Ty-22M3 п/п-ка Ананьева (дефект был не единичным в эксплуатации машины). На самолете м-ра Соколова при возвращении из-за невыпуска основной стойки пришлось прибегнуть к аварийной системе. Работу 402-го ТБАП, как и первой смены, прилетал контролировать Дейнекин с главным штурманом Дальней авиации Егоровым. Сам командующий, хотя и продолжавший летать и имевший допуск на Ty-22M3, в боевых вылетах не участвовал. Однако комдив Д.М.Дудаев, принявший дивизию год назад, прилетел из Тарту в декабре и несколько раз слетал с подчиненными на бомбардировку, оказавшись в числе награжденных Боевым Красным Знаменем, а вскоре и получившим чин генерал-майора. Дивизия перспективного генерала по результатам боевой учебы была затем признана лучшей в ДА. К началу февраля подоспела замена отработавшим 2 месяца экипажам из Орши. В Мары-2 прибыла восьмерка Ty-22M3 840-го ТБАП из Новгородских Сольцов. Подбирая подготовленных летчиков, на замену прикомандировали и один экипаж из 52-го учебного ТБАП из Шайковки под началом гвардии м-ра Примака. С начала февраля вылеты выполнялись без сопровождения Ту-22ПД, так как большая часть целей находилась в центральных районах, вдали от границы. Другой причиной называлась заметность шумовых помех, слышимых даже обычными радиоприемниками и вчистую заглушавших передачи кабульского телецентра. Она служила предупреждением о приближении бомбардировщиков, а те предпочитали «войти без стука». Последний боевой вылет экипажей отдельной группы Дальней авиации пришелся на самый канун полного вывода войск. 14 февраля, когда границу оставалось пересечь только генералу Громову со своим сопровождением, «дальники» бомбили северные районы. Намечавшиеся на другой день удары по оппозиции на случай штурма Кабула не состоялись. Несмотря на уговоры афганских властей, настаивавших на продолжении бомбардировок как компенсации ухода 40-й А, на это не пошли. Тем не менее, у границы оставалась настоящая армада, готовая сделать «шаг назад». Помимо местных и прикомандированных авиационных сил,на аэродромах задержали всю выведенную группировку ВВС 40-й Армии, и только через три недели готовность была снята. «Дальники» покинули Мары позже остальных – обладавшей наиболее «длинными руками» группе Дальней авиации дали «добро» на отлет домой только 13 марта 1989 г. Автор Виктор Марковский, журнал "Авиация и время" №5 1998 год
|
|
|
| Новая тема Ответить |
| Метки |
| авиация |
|
|
 Похожие темы
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| У Турции теперь есть свой «Афганистан» | ezup | Турция | 0 | 11.02.2020 15:06 |
| Афганистан: второй Вьетнам для Соединённых Штатов | ezup | США | 0 | 23.12.2018 14:19 |
| Афганистан: война, любовь и голые коленки | ezup | Военные архивы | 0 | 15.02.2018 11:09 |
| Командир полка. Часть 1. Афганистан | ezup | Военный архив | 0 | 23.12.2016 11:25 |
| Афганистан просит о бесплатных поставках российских Ми-35 | ezup | Авиационные новости | 0 | 10.08.2016 10:21 |









 Линейный вид
Линейный вид
